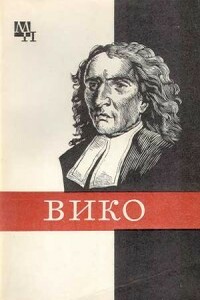Философская эволюция Ж.-П. Сартра | страница 43
Эта общая установка восстановить автономию бытия-для-себя невзирая на существование другого реализуется в поведении человека двумя путями: «превзойти трансцендентность другого, или, напротив, поглотить в себе эту трансцендентность, не утрачивая ее характера трансцендентности — таковы две первоначальные позиции, которые я принимаю по отношению к другому»[27]. Первая позиция есть не что иное, как утверждение собственной свободы путем отрицания свободы другого, и находит она выражение в таких актах поведения, как «индифферентность», «желание», «ненависть», «садизм». Вторая позиция представляет собой попытку добиться у другого добровольного признания своей свободы, и средствами ее осуществления служат «любовь», «язык» и «мазохизм».
Начнем со второй позиции. Смысл ее нагляднее всего проступает в любви. В чем же суть «проекта любви» по Сартру? В конкурентных отношениях между любящими. Каждый хочет одного и того же: обладать не телом, но «свободой» («душой») предмета своей страсти, хочет «существовать a priori как объективный предел этой свободы»[28], иными словами, быть для другого «всем». Но, во-первых, эти стремления наталкиваются друг на друга, ибо они противоположно направлены. Во-вторых, даже само осуществление проекта свободы равнозначно его крушению, ибо стать для другого всем значит потерять себя.
Здесь-то и обнаруживается глубокая внутренняя противоречивость и, следовательно, неосуществимость «проекта любви» в принципе: смысл любви в том, чтобы приковать к себе сердце другого свободного человека, но как только это достигается, другой из свободного становится рабом, а ведь первоначальное намерение было любить свободного человека. Следовательно, по Сартру, любовь есть мечта, прикрывающая довольно-таки неприглядную реальность борьбы и порабощения. Так развенчивается еще один романтический идол, которому поклоняется буржуазная респектабельность, отлично сознающая, впрочем, изнанку действительных отношений между мужчиной и женщиной в капиталистическом обществе.
Не лучше обстоит дело и с другой позицией, позицией подавления свободы другого. Ни любовь, ни ненависть не могут примирить бытие-для-себя человека с его бытием-для-другого, свобода одного делается рабством другого, и конфликт предстает как существеннейшая черта отношений между людьми. Гегелевский анализ господского и рабского сознания в «Феноменологии духа» превращается Сартром в общую модель человеческих отношений с той только разницей, что у Гегеля это противоречие снимается в ходе исторического процесса, а по Сартру, противоречия между людьми неизбежны и неустранимы.