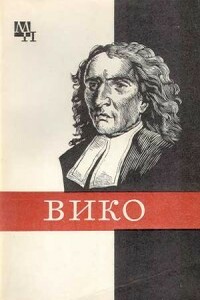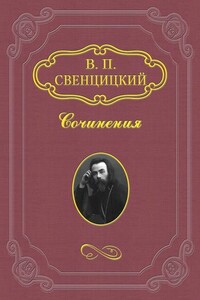Философская эволюция Ж.-П. Сартра | страница 30
Этот поворот в способе осмысления основного вопроса философии отразился и в самом названии трактата «Бытие и Ничто», где «ничто» есть синоним сознания, как может убедиться всякий внимательный и подготовленный читатель, если у него хватит терпения выдержать семьсот с лишним страниц сартровского текста со всеми его темными отвлеченностями и непролазными философическими глубинами, в которых теряются попадающиеся то тут, то там живые образы и картинные описания.
Но начнем по порядку, т. е. с анализа бытия как такового, каково оно есть в своей собственной стихии независимо от воспринимающего, мыслящего, переживающего субъекта.
Кстати, допуская такого сорта бытие, Сартр в каком-то отношении приближается к материализму, выражая (и таких мест немало рассыпано на страницах его трактата) благое намерение избавиться от «идеализма» своих предшественников, особенно Гегеля и Гуссерля. В дальнейшем мы увидим, насколько это ему удалось, сейчас же ограничимся напоминанием, что за свои столь явно выраженные, хотя бы только на уровне деклараций, симпатии к материализму Сартр подвергся довольно резкой критике со стороны ряда своих комментаторов. В этих симпатиях усмотрели грехопадение Сартра с высот феноменологии и полный разрыв с методом Гуссерля. Так, один из критиков обвиняет его в «дуализме» сознания и бытия, сводящем на нет все «достижения феноменологии». Со времен гениального труда В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» хорошо известно, что упрек в «дуализме» («удвоении мира») крайне характерен именно для идеалистической критики материализма. С точки зрения идеалистов, этого недостатка («удвоения мира») лишено только их собственное учение. На самом деле гораздо больше истины в прямо противоположном утверждении, ибо где еще можно найти такую интенсивную форму «удвоения мира», как не в христианском вероучении, заботливо и систематически противопоставляющем «земное» и «небесное», естественное и сверхъестественное.
Однако мы немного отвлеклись от нашей темы и теперь должны к ней вернуться. Каковы же, собственно, характеристика «самого бытия» и его «образ», т. е. проявление в сознании? Эту характеристику Сартр сначала логически дедуцирует из противопоставления бытия сознанию, а затем описывает, как оно себя обнаруживает в сознании субъекта. Решающим признаком бытия, коренным образом отличающим его от сознания, является, по Сартру, отсутствие в нем каких-либо отношений, которые бы обуславливали его внутреннюю расчлененность. Бытие просто «есть», «наличествует», «пребывает», фактически «присутствует». Вот все, что о нем можно сказать. Но из такой «бедности» Сартр с помощью логики извлекает довольно много следствий, которые, в свою очередь, обрастают множеством других следствий, также имеющих принципиальное значение. Нет нужды все перечислять здесь, ведь в нашу задачу не входит пространное «академическое» обозрение философской доктрины трактата, тем более что это уже сделано в нашей литературе, особенно в книге В. Н. Кузнецова.