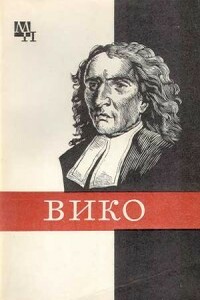Философская эволюция Ж.-П. Сартра | страница 18
Симона де Бовуар рассказывает, как Сартр впервые узнал о феноменологии от только что вернувшегося из Германии Р. Арона. Было это в самом начале 30-х годов, они сидели в кафе, и Арон сказал, посмотрев на столик: «Феноменология позволяет делать философию из всего, вот хотя бы из этого коктейля». Эти слова, по свидетельству де Бовуар, произвели огромное впечатление на Сартра: с тех пор и началось его увлечение гуссерлианским кругом идей и «новыми горизонтами», которые эти идеи, как ему думалось, открывали. Во всяком случае, одним из следствий увлечения феноменологией была известная «демократизация» мыслительного материала, связанная с требованием описывать абсолютно все, что является сознанию, и именно так, как оно является.
Это требование как бы «привязывало» философию к перипетиям повседневной жизни человека, к обыденным житейским ситуациям человеческих взаимоотношений, что тоже сближало философский анализ с традиционным делом литератора. Гуссерль еще старался сохранить своего рода аристократическое представление о философии как «науке об абсолютной реальности», в роли каковой (реальности) у него фигурировало «чистое сознание», превращенное в самостоятельный субъект. Как мы имели возможность убедиться, Сартр с самого начала своей философской карьеры поспешил разделаться с этим предрассудком идеалистического мировоззрения, и тем самым феноменология окончательно превратилась в метод «прояснения» смысла повседневного человеческого бытия. На философском языке это означало, что феноменология сделалась инструментом экзистенциализма (философии существования).
Основным признаком человеческого существования приверженцы этого стиля мысли объявили (вслед за немецким учеником Гуссерля М. Хайдеггером) бытие-в-мире. Смысл такого определения был в том, чтобы покончить с представлением о самодовлеющем бытии человека; человек вне мира — это абстракция, а не реальность, точно так же как и мир вне человека. Можно было подумать, что на сей раз буржуазная философия действительно избавилась от идеализма и нашла наконец «магическую формулу» исходного принципа, объединяющего субъект и объект в единое целое. И, надо сказать, если это определение надлежащим образом интерпретировать с позиций исторического материализма, то у нас получится положение об общественно-исторической сущности человека и о предметно-практическом характере окружающей его среды.
Совсем не то в экзистенциализме. Здесь отношение человека к миру определяется в психологических терминах, но не как «идея», «ощущение» или «сознание вообще», что было свойственно архаическим формам идеализма, а как интуитивно переживаемая эмоциональная «настроенность», которую Хайдеггер, например, называет «заботой», одновременно призывая понимать это слово не в обычном психологическом смысле, а онтологически — как всеобщую форму бытия-в-мире.