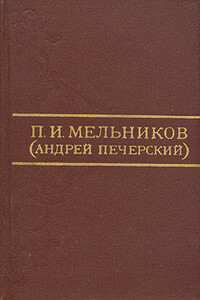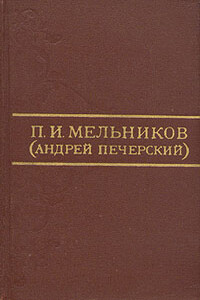На горах (Книга 1, часть 1) | страница 5
А что в прежни времена с сергачами бывало, того не перескажешь. Но к слову пришлось рассказать, как ученых медведей пленным французам на смотр выставляли. Когда французы из московского полымя попали на русский мороз, забирали их тогда в плен сплошь да рядышком, и тех полонянников по разным городам на житье рассылали. И в Сергач сколько-то офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехались, ознакомились с французами и по русскому добродушию приютили их, приголубили. Полонянникам не житье, а масленица, а тут подоспела и настоящая весела, честна Масленица, Семикова племянница. Сегодня блины, завтра блины - конца пированьям нет. И разговорились пленники с радушными хозяевами про то, что летом надо ждать. "Не забудет, говорят, Наполеон своего сраму, новое войско сберет, опять на Россию нагрянет, а у вас все истощено, весь молодой народ забран в полки - не сдобровать вам, не справиться". Капитан-исправник случился тут, говорит он французам: "Правда ваша, много народу у нас на войну ушло, да это беда еще невеликая, медведей полки на французов пошлем". Пленники смеются, а исправник уверяет их: самому-де велено к весне полк медведей обучить и что его новобранцы маленько к службе уж привыкли - военный артикул дружно выкидывают. Послезавтра милости просим ко мне на блины, медвежий баталион на смотр вам представлю". А медвежатники по белу свету шатались только летней порой, зимой-то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведей в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как малы ребята горох воровали. А исправник французам: "Это, говорит, ружейным приемам да по-егерски ползать они обучаются". Диву французы дались, домой отписали: сами-де своими глазами медвежий баталион видели. С той, видно, поры французы медведями нас и стали звать.
Чуть не по всем нагорным селеньям каждый крестьянин хоть самую пустую торговлю ведет: кто хлебом, кто мясом по базарам переторговывает, кто за рыбой в Саратов ездит да зимой по деревням ее продает, кто сбирает тряпье, овчины, шерсть, иной строевой лес с Унжи да с Немды (Реки в Костромской губернии текут по лесам.) гоняет; есть и "напольные мясники", что кошек да собак бьют да шкурки их скорнякам продают. Мало-мальски денег залежных накопилось, тотчас их в оборот. И ежели по скорости мужик не свихнется, выйдет в люди, тысячами зачнет ворочать. Бывали на Горах крепостные с миллионами, у одного лысковского (Лысково - село на Волге.) барского мужика в Сибири свои золотые промыслы были. Теперь на Горах немало крестьян, что сотнями десятин владеют. Зато тут же рядом и беднота непокрытая. У иного двор крыт светом, обнесен ветром, платья что на себе, а хлеба что в себе, голь да перетыка - и голо и босо и без пояса. Такой бедности незаметно однако ж поблизости рек, только в местах, от них удаленных, можно встретить ее. Общинное владенье землей и частые переделы - вот где коренится причина той бедности. Чуть не каждый год мир-община переделяет поля, оттого землю никто не удобряет, что-де за прибыль на чужих работать. На дворах навозу - пролезть негде, а на поле ни воза, землю выпахали; пошли недороды. Нет корысти в переделах, толкует каждый мужик, а община-мир то и дело за передел... И богатые и бедные в один голос жалобятся на те переделы, да поделать ничего не могут...