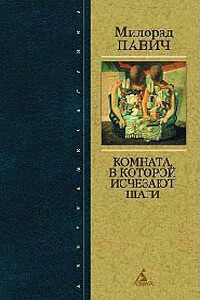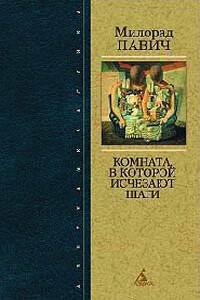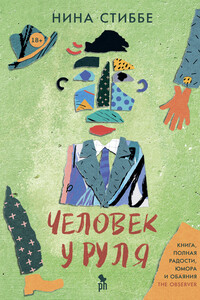Невидимая сторона Луны | страница 66
Под конец Степанида Джурашевич, будто истаяв, стала маленькой, почти как ребенок, сухой, истощенной грузом своих платьев и лет; вся жизнь была снята с нее слой за слоем, Степанида принимала ее такой, какой она была, не отвергая ни одной минуты. Все свои дни и годы она хотела иметь под рукой, носила на себе, будто они могли от чего-то защитить.
Я и сегодня не могу объяснить ее странное поведение перед смертью. Но однажды вечером я пришел туда и увидел в бывшей квартире Степаниды Джурашевич освещенное огнями трамвая окно, стеклянный шкафчик и в нем узнал монашеский нож. И тогда мне показалось, что я что-то понял.
Нож и она вели себя одинаковым образом. Будто она чему-то научилась от ножа; будто вся ее жизнь была направлена на то, чтобы создать как можно больше преград между собой и миром, между своим сердцем и той блестящей вещицей, что скрывалась в нескольких чехлах, вставленных один в другой. И таким образом она сумела выжить. Когда дело доходило до окончательного решения, ему мешали либо толстый слой платьев, под которым билось недосягаемое сердце, либо многослойные ножны, в которых пряталось недоступное лезвие с девизом, какие обычно вырезают на лезвиях монашеских ножей:
Тот, кто неуязвим, не станет наносить рану.
Комната Андрия Анджала
Сколько себя помню, я всегда ненавидел две вещи: свое лицо и свое имя. Как бы мне хотелось иметь лицо красивое и молодое, чтобы со временем, со всеми ветрами и проглоченными кусками, оно изменилось, постарело и стало мне отвратительно. Как бы спокойно я его ненавидел! Так нет же, ни мое лицо, ни имя не становились с годами иными, а я постоянно желал, чтобы все, связанное со мной, изменилось, и чем больше, тем лучше. Так я дожил до сорокового года жизни, а лицо осталось двадцатипятилетним, предоставив чему-то другому во мне таскать на себе потраченное время, груз пройденных шагов и преодоленное в снах и книгах огромное пространство, что сматывалось с какого-то клубка, который при этом должен был, разумеется, уменьшаться. Работа историка литературы заставляла меня постоянно вступать в профессиональные контакты, порой исключительно эпистолярные. Так случилось, что многих коллег, с которыми я имел обширную переписку, мне так и не довелось увидеть, и я даже не знал, как они выглядят. То же самое было и у многих из них по отношению ко мне. Один из них, д-р Андрий Анджал, специалист по литературе XVII и XVIII веков, жил в Венгрии, в Пече. Свои книги, написанные и изданные на немецком языке («Барокко в Венгрии», «Мир славянского барокко»), а также многочисленные рецензии он слал мне годами, сопровождая письмами в конвертах цвета промокательной бумаги, в которые вместо приветствия всегда была вставлена завязанная узлом нить, и этой нитью можно было вскрыть конверт без ножа. В ответ я посылал свои и чужие работы из той же области. Подчеркиваю, что с обложек моих книг он мог узнать, сколько мне лет, однако, как будет ясно из дальнейшего, он почему-то этого не сделал, не считая, по-видимому, подобные сведения чем-то важным.