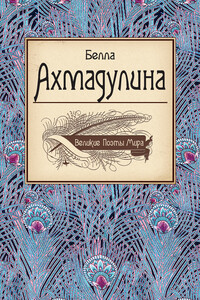Озноб | страница 2
Н. Тарасова
ЧЕРНЫЙ РУЧЕЙ
В деревне его называют Черным,
Я не знаю, по выдумке чьей.
Он, как все ручейки, озорной и проворный,
Чистый, прозрачный ручей.
В нем ходят, кряхтя, косолапые утки,
Перышки в воду роняя свои.
Он льется, вокруг расплескав незабудки,
Как синие капли своей струи.
Может, он потому мне до боли дорог,
Что в нем отразился лопух в пыли,
Прямая береза, желтый пригорок -
Родные приметы моей земли.
Яркие камешки весело моя,
Он деловито бежит в Оку.
А я бы скучала у Черного моря
По этому Черному ручейку.
НОЧЬЮ
Как бы мне позвать, закричать?
В тишине все стеклянно-хрупко.
Голову положив на рычаг,
Крепко спит телефонная трубка.
Спящий город перешагнув,
Я хочу переулком снежным
Подойти к твоему окну
Очень тихой и очень нежной.
Я прикрою ладонью шум
Зазвеневших капелью улиц.
Я фонари погашу,
Чтоб твои глаза не проснулись.
Я прикажу весне
Убрать все ночные звуки.
Так вот ты какой во сне!?
У тебя ослабели руки…
В глубине морщинок твоих
Притаилась у глаз усталость…
Завтра я поцелую их,
Чтоб следа ее не осталось.
До утра твой сон сберегу
И уйду свежим утром чистым,
Позабыв следы на снегу
Меж сухих прошлогодних листьев.
ЖАЛЕЙКА
Я уеду ранним утром
Наставленьям вопреки,
Я проснусь в домишке утлом
Возле пасмурной реки.
Залюбуюсь сивым дедом,
Что проходит босиком.
Ах, откройте, что он сделал
С тем зеленым тростником.
Он спускается с пригорка,
Бабы смотрят из ворот.
Так ли тонко, так ли горько
Та тростиночка поет?
Я стою с тяжелой лейкой,
Спелых грядок не полью.
Пожалей меня, жалейка,
Что я песен не пою.
Я болею, я устала,
Оттого и не могу.
Промычало мимо стадо,
Запестрело на лугу…
Водят кони вострым ухом,
Дождь пузырится у ног,
И метет лебяжьим пухом
Тополиный ветерок.
А по теплым тем сугробам,
По глубокой той воде
Всё идет с лицом суровым
Дед с тростинкой в бороде.
БОГ
За то, что девочка Настасья
добро чужое стерегла,
босая, бегала в ненастье
за водкою для старика, -
ей полагался бог красивый
в чертоге, солнцем залитом,
щеголеватый, справедливый
в старинном платье золотом.
Но посреди хмельной икоты,
среди убожества всего
две почерневшие иконы
не походили на него.
За это — вдруг расцвел цикорий,
порозовели жемчуга,
и раздалось, как хор церковный,
простое имя жениха.
Он разом вырос у забора,
поднес ей желтый медальон
и так вполне сошел за бога
в своем величье молодом.
И в сердце было свято-свято
от той гармошки гулевой,
от вин, от сладкогласья свата
и от рубашки голубой.
А он уже глядел обманно,
платочек газовый снимал,
и у соседнего амбара
ей груди слабые сминал…