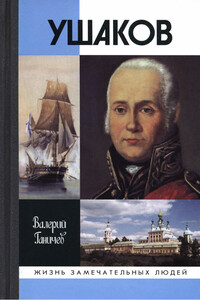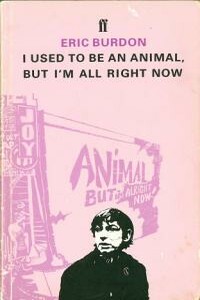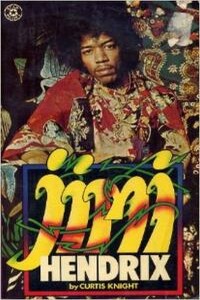Микола Лысенко | страница 31
Рихтера Николай Витальевич характеризует как громкую европейскую знаменитость. «Он носит титул и диплом органиста церкви Петра и Павла… Это живой старичок с седыми кудрями, черными глазами, которыми он в мириадах теоретических этюдов заметит и поймает малейшую ошибочку, а метод чтения — в рот кладет, да и только».
Но, отдавая должное маститым профессорам консерватории, у которых «ученость даже в лице видна», рисуя в письмах меткие и выразительные портреты своих учителей, Николай Витальевич в то же время едко и зло пишет о чисто прусской нетерпимости некоторых из них к славянской культуре, о национальной ограниченности тех, кто «Шопена не понимает», «о Глинке и не ведает».
Как-то на лекции истории музыки у Бренделя Лысенко и Размадзе обрезали одного немца, с презрением отозвавшегося о музыкальной России: «какая там, мол, может быть музыка». «Ну да и обработали же мы его при всей честной компании, — рассказывал Николай Витальевич. — На что вам старик Брендель, почтенный доктор музыки, — все его лекции наполнены выражениями — немецкий ум, национальность, немецкая гениальность. Все это хорошо и всякому известно, но дойти до такого абсурда, что сказать о Шопене и других славянских музыкантах, что все они писали — крали из немецкой музыки, это пристало только человеку, ограниченному в его национальной глупости».
Страстный, порывистый грузин Размадзе, влюбленный в Глинку, в русскую классическую музыку, — не только добрый товарищ, но и единомышленник, союзник на трудном в Лейпциге поприще пропагандирования славянской музыки.
«Сегодня, — сообщает Николай Витальевич, — мы с Размадзе знакомили Венцеля с увертюрой Глинки «Жизнь за царя» и «Арагонской хотой». Очень ему понравилось».
И во всех письмах, о чем бы в них ни шла речь, слышится один и тот же мотив: работа, работа, работа…
Как ни экономит, как ни отказывает себе Николай Витальевич (подчас в необходимом), сбережения его тают, как мартовский снег. Единственный выход — за два года пройти четырехлетний курс.
«Занятий у меня столько, что и сказать вам не могу. Каждый божий день я от 8 часов утра и до 10 вечера, кроме лекций, обеда, разумеется, не встаю от фортепьяно, иначе не хватит времени, потому что нужно двум профессорам, Венцелю и Рейнеке, готовить заданное. А больше всего отравляет мое существование прелюдии и фуги Баха, которых я уже восьмеро проглотил, а впереди их еще 88. Это такая подлая музыка (действительно, очень трудная для исполнения. — О. Л.), что ее не раскусишь до тех пор, пока не выучишь, а тогда в состоянии ровно и надлежаще играть и в ту пору так к ней привязываешься, что играешь хоть 100 раз, а тебя так и подмывает сыграть еще 101-й раз…» «Часто, когда фуга не дается играть плавно и безошибочно, я просто в голос ругаю Себ. Баха, так что он поворачивается в своем гробу, а потом самому смешно станет, из-за чего таки Баху было бы улегчать исполнение фуги на том основании, что будущему Николаю Витальевичу придется трудно ее одолевать. На этой мысли примиришься и дальнейшим штудированием-таки оборешь ее, — вода, как говорят, камень долбит».