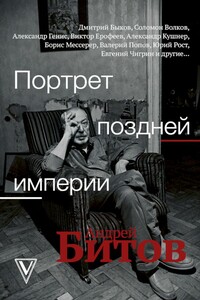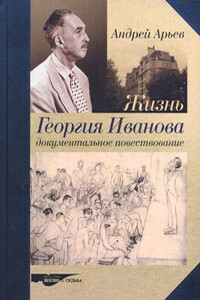Россия и Запад | страница 2
Для того чтобы понять особость творческой жизни Азадовского (и не только его одного) в конце пятидесятых — шестидесятые годы, надо представить себе культурно-общественную атмосферу бытования той группы молодых ленинградских интеллектуалов, заметным участником которой стал Азадовский. Это был своего рода «орден» — сообщество, достаточно замкнутое и почти недоступное для людей случайных и «ненадежных» в смысле политическом. Литературная молодежь группировалась вокруг нескольких русских интеллигентов старого закваса, прошедших аресты, лагеря и опалу, но полностью сохранивших себя духовно. Это были — в данном случае — Эльга Львовна Линецкая и Иван Алексеевич Лихачев. В работе секции художественного перевода принимали участие и такие блестящие в своем роде литераторы — вчерашние политзэки, — как Татьяна Григорьевна Гнедич, Алексей Матвеевич Шадрин, Александр Александрович Энгельке… Это была последняя волна русской интеллигенции, непосредственно восприявшая интеллектуальную и этическую энергию людей Серебряного века, а через них — и века девятнадцатого.
К счастью, наше поколение еще ощутило эту мощную культурно-психологическую инерцию.
Кроме плодотворной и важной работы в семинарах и на заседаниях переводческой секции Дома писателя еще более серьезную роль в формировании мировосприятия той группы молодых литераторов, к которой принадлежал Константин Азадовский, играли приватные «домашние» собрания, посвященные в значительной своей части освоению неподцензурной русской культуры XX века. Я помню, как в доме Эльги Львовны Линецкой во время чтения вслух машинописи «Четвертой прозы» Мандельштама, только-только попавшей в самиздат из рук Надежды Яковлевны, разрыдался наш общий с Азадовским друг тех лет Геннадий Шмаков. Человеческие токи, идущие из того высокого культурного слоя, переживались чрезвычайно остро и лично. Страшная судьба Мандельштама, равно как и судьбы Гумилева, Есенина, Клюева, Цветаевой, воспринималась как неизгладимое непрощаемое преступление господствующей власти. И это ощущение родства с загубленными гениями и отторжение от палаческой по сути своей власти формировало взаимоотношения с миром.
Высокая русская культура оказывалась важнее и в некоторых отношениях реальнее, чем повседневная советская действительность. Это и была среда духовного обитания.
И власть это чувствовала. В Азадовском она безошибочно чуяла не только чужеродность, но и бесконечно раздражающую последовательность человека, для которого самоуважение было жизненным стержнем. Когда в 1969 году Азадовского пытались привлечь к «делу Славинского» и получить от него нужные показания, то после одного из безрезультатных допросов женщина-следователь резюмировала: «С такой памятью вам, Азадовский, в аспирантуре делать нечего!»