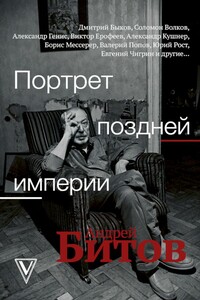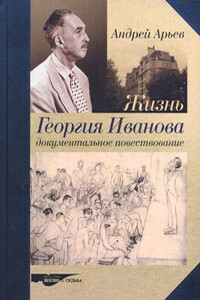Россия и Запад | страница 12
Похоже, в лице Азадовского мы имеем дело с космополитом в прямом и эвфемистическом значении этого слова, чье научное и общественное сознание сформировалось как на стыке русской и западной культур, так и на фоне общественно-политических процессов советского времени, в частности конца 1940-х — начала 1950-х. Этому можно найти и биографическое объяснении: в рамках антисемитского шабаша, получившего название «борьбы с космополитизмом», бесстыдной травле, в конечном итоге укоротившей ему жизнь, был подвергнут Марк Константинович Азадовский. Для сына знаменитого ученого-фольклориста эта кампания против «беспачпортных бродяг в человечестве», якобы ненавидящих русский народ, стала чем-то вроде родовой травмы.
Создается впечатление, что пристальный интерес к западной культуре и западноевропейским языкам, который с самого начала стал «движущим механизмом» его исследовательской работы, имеет, в частности, и эти исторические корни. Во всяком случае, в привязанности Азадовского к символистско-акмеистической поэтике и традиции, заметной по его литературной стилистике, свою роль наверняка сыграло и то, что символизм и акмеизм, полузапретные в советские годы, в дореволюционной России возникли и сформировались на западноевропейских дрожжах.
Об иностранных языках в этой связи хочется сказать особо. Стремление к овладению европейскими языками (ни один из них, за исключением, пожалуй, немецкого, не становится стержнем его профессиональной деятельности) было для Азадовского не увлечением полиглота-лингвиста, а внутренней потребностью, сродни чтению книг или тяге к стихам, которые, по его словам, сами собой «впечатываются в память» — дар, присущий немногим.
Но дело не только и не столько в свойствах памяти. Поэзия больше, чем поэзия, перевод (прежде всего, поэтический) больше, чем перевод, — для Азадовского эта максима, сформированная русской культурой XIX века, была и остается незыблемой и актуальной. Дух поэзии сам по себе космополитичен; приобщение к нему происходит через перевод, что, собственно, и приводит к разрушению государственных и прочих границ. Для него это — очевидный «букет истин». Однако в условиях противодействия советскому культурному варварству этот «букет» обретает дополнительный смысл некого духовного абсолюта и, одновременно, способа сопротивления, едва ли не руководства к действию, что, в свою очередь, углубляет и уточняет внутреннее отношение к оригиналу: для Азадовского «чужое» и «свое» оказываются