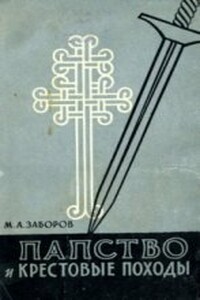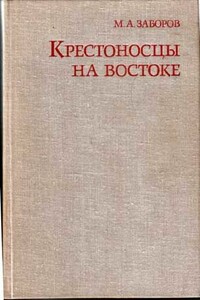История крестовых походов в документах и материалах | страница 7
Так или почти так думали, впрочем, и все остальные летописцы первой половины XII в. Эта концепция — в науке она обозначается понятием «провиденциализм» (от латинского «провиденцио» — «провидение божье») — образует идейную основу их повествований. Провиденциалистское понимание истории вообще господствовало в европейской хронографии эпохи классического средневековья. В произведениях же латинских хронистов крестовых походов такое истолкование исторических событий проявлялось с необычайной рельефностью.
Почти все эти повествования в той или иной степени пронизаны восторженно-благочестивой экзальтацией, отражающей, конечно, умонастроения западных современников крестоносного движения в его начальной фазе.
«Деяния бога через франков» Гвиберта Ножанского словно вобрали в себя провиденциалистские установки, разделявшиеся как церковными, так и светскими историками крестового похода 1096—1099 гг. До отказа напичканный богословской премудростью, он чуть ли не во всякой мелочи усматривает перст божий, что не мешает ему, однако, подобно остальным, столь же благочестиво настроенным историкам крестового похода, вглядываться в факты реальной жизни, связанные с его историей, и описывать их со всей дотошностью. Да и по отношению к «чудесным» событиям, о которых сообщают хронисты, чьи повествования служили ему источником, Гвиберт Ножанский проявляет иногда определенную разборчивость и критицизм, не слишком свойственные писателям того времени. Он знает немало случаев, когда «чудеса» искусственно инсценировались, и с презрением к «постановщикам» такого рода инсценировок рассказывает и о них самих, и о простом народе, «бестолковом и жадном до всяких новинок», принимающем на веру эти лжечудеса. Гвиберт решительно настроен против заведомого обмана, ибо, будучи легко разоблачаем, он лишь подрывает авторитет церкви среди простонародья. В остальном же Гвиберт, как и многие другие хронисты, заполняет свое произведение вздорными историями о чудесах, сбывшихся вещих снах, видениях и т. п.
Во многих отношениях к произведению Гвиберта Ножанского близка «Иерусалимская история» монаха из Реймса по имени Роберт. Она была написана им около 1107 г. (либо между 1112 и 1118 гг.) по поручению аббата монастыря в Мармутье, некоего Бернара — факт сам по себе нередкий в практике средневекового историописания: подчас хроники крестовых походов составлялись церковниками или грамотеями-рыцарями по прямому либо косвенному распоряжению их духовных начальников и светских сеньоров, выдвигавших перед историками задачи апологетического свойства. Именно так обстояло дело и в данном случае. Роберт Монах, трудясь в своей уединенной келье в обители святого Ремигия, описывал крестовый поход вовсе не для удовлетворения простой любознательности аудитории, а имея в виду вполне определенные религиозно-назидательные цели: его хроника предназначалась для укрепления веры в сердцах всех тех, «которые прочитают эту историю или услышат, как се будут читать, и уразумеют выслушанное». Иными словами, задачей хрониста было упрочить своим рассказом престиж и влияние католической церкви. Роберт Монах создавал свой труд, как, впрочем, и многие другие служители церкви, писавшие о войне католиков против «неверных» в начале XII в., «ради прославления имени божьего» — следовательно, и ради прославления самой церкви, действовавшей от имени всевышнего. «Иерусалимская история» Роберта Реймского — первая полная история крестового похода, охватывающая события от Клермонского собора 1095 г. до 1099 г. Наибольшую ценность в его хронике представляет описание Клермонского собора, на котором монах-хронист лично присутствовал.