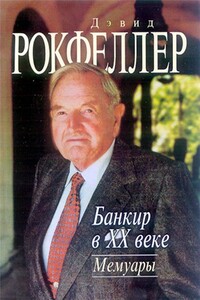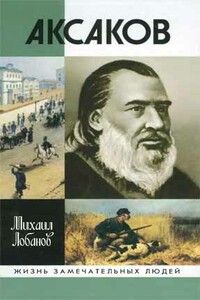Фридрих Шиллер | страница 165
Блестяще справляется он с этой задачей.
Три последних дня жизни Марии проходят, как большой жизненный путь.
Вот вспыхнула надежда на освобождение: Мария узнает, что племянник ее сурового стража Полета — тайный католик, приверженец, проникший в ее темницу, чтобы помочь ей бежать. Нет, не на успех заговора юных смельчаков надеется Мария: немало их уже погибло, пытаясь вызволить ее из неволи, — она рассчитывает на то, что Мортимер свяжет ее с всесильным Лейстером, а тот сумеет воздействовать на Елизавету, которой одной — Мария трезво отдает себе в этом отчет — дано раскрыть двери ее темницы:
О, Мария не заблуждается относительно «родственных» чувств своей сестры-королевы. Она хорошо знает им цену.
Свидание с Елизаветой нужно ей только потому, что она знает: английская королева, увидев ее в несчастье, вынуждена будет перед лицом света проявить милосердие.
Какой реальной показалась узнице в те короткие мгновения, когда выслушивала она горячие признания Мортимера, долгожданная свобода!
И снова — борьба, напряженная, страстная борьба за жизнь, за свои человеческие и королевские права (в начале драмы они еще неотделимы друг от друга в сознании Марии Стюарт).
С горячим негодованием против насилия, которым подвергли ее в Англии, ведет Мария эту борьбу, когда, не успел Мортимер скрыться, в ее темнице появляется самый опасный из ее врагов, лорд-казнохранитель Берли.
Страдающая пленница, вооруженная всем своим огромным женским обаянием, она предстает в разговоре с Берли умным государственным деятелем, опытным дипломатом.
Только однажды выдает она свое страстное волнение, в словах, направленных против Елизаветы, но оборачивающихся против нее самой:
Этим против воли она как бы вызвала тень Дарнли, своего убитого мужа, вложила в руки врага оружие против себя. И сейчас же пробует отвести его острие — проводит резкую грань между моральной и юридической ответственностью, между судилищем своей совести и судом английского парламента:
Но за словами о «державных правах» — с каким тонким мастерством раскрывает это Шиллер! — все отчетливей слышно биение горячего человеческого сердца, страдающего не только от несправедливости, учиненной над нею, шотландской королевой, но и от понятой теперь ею несправедливости господствующих порядков. Она отвергает своих судей не только потому, что они не равны ей по сану, а потому главным образом, что для нее неприемлемы их личные человеческие свойства, их беспринципность и продажность: