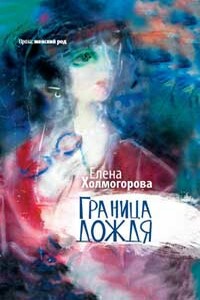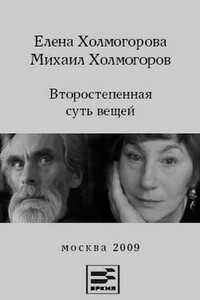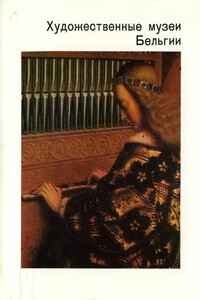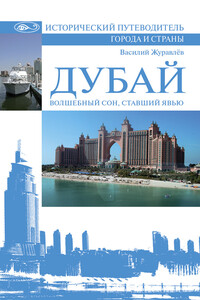Улица Чехова, 12 | страница 31
Четыре дня провел Чехов в этом доме. Опять-таки: много это или мало? Заслуживают ли они пристального внимания? Что значили эти дни в быстротечной жизни Антона Павловича? Ответ один: для нас драгоценны любые мгновения его жизни. А что значили эти четыре дня в биографии дома? Одну из самых ярких его страниц, умещающихся в три захватывающих дух слова: «Здесь жил Чехов».
Константин Сергеевич Станиславский оставил описание кабинета Чехова в доме напротив, куда через несколько дней он переехал (ул. Чехова, 11), но можно предположить, что те же вещи окружали писателя и в доме Владимирова: «Самый простой стол посреди комнаты, такая же чернильница, перо, карандаш, мягкий диван, несколько стульев, чемодан с книгами и записками, словом, только необходимое и ничего лишнего. Это была обычная обстановка его импровизированного кабинета во время путешествия».
Чем же были заполнены эти дни с 12 по 16 апреля 1899 года? Прежде всего заботами о пьесе «Дядя Ваня», для сценического воплощения которой они оказались решающими.
Судьба Чехова-драматурга складывалась трудно. Если подавляющее большинство его прозаических произведений не встречало серьезной критики, то вокруг пьес, особенно после их постановки, неизменно разыгрывались бури. Антон Павлович как-то сказал о театре: «Сцена — это эшафот, где казнят драматургов», но глубокая тяга к театру пересиливала все намерения его расстаться с драматургией. В письмах после постановки «Иванова» и «Лешего» встречаем такие фразы: «Не улыбается мне слава драматурга», «В другой раз уж больше не буду писать пьес», но обет молчания он выдержать не может. После неудачных постановок «Иванова» и «Лешего», после провала «Чайки» в Александрийском театре упоминания о работе над новыми пьесами исчезают из чеховской переписки. Сам по себе этот факт очень показателен: практически весь творческий процесс от рождения замысла до его воплощепия буквально всех произведений отражен в письмах Антона Павловича. Покрыта тайной лишь работа над пьесой «Дядя Ваня». Исследователи не нашли ни одного упоминания о ней до 2 декабря 1896 года, когда Чехов пишет А. С. Суворину в связи с подготовкой сборника пьес, отмечая среди прочих «не известного никому в мире» «Дядю Ваню». До сих пор не закончен спор о времени написания пьесы, но большинство сходится на 1896 годе. По свидетельству Вл. И. Немировича-Данченко, «Чехов не любил, чтобы говорили, что это переделка того же «Лешего». Где-то он категорически заявил, что «Дядя Ваня» — пьеса совершенно самостоятельная». Действительно, несмотря на сохранение действующих лиц, основной сюжетной линии и ряда сцен из «Лешего», «Дядя Ваня» отличается от него в главном: если там во главу угла поставлены личные конфликты, то в «Дяде Ване» центр тяжести перенесен на несовместимость гуманистических устремлений героев с требованиями и укладом окружающей жизни.