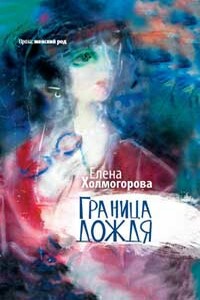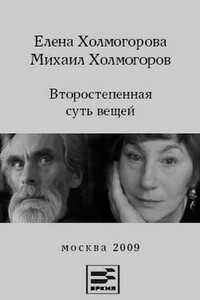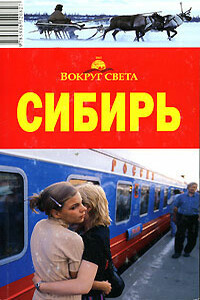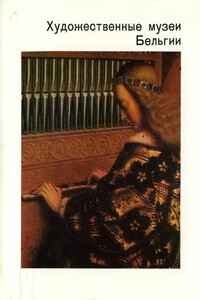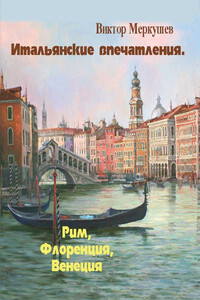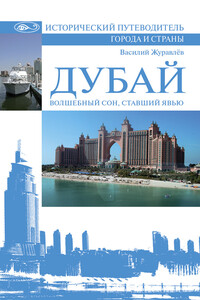Улица Чехова, 12 | страница 17
Орлов остро переживал трагическую гибель Пушкина. Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, узнал о кончине сына в Москве. Он жил у своей сестры Елизаветы Львовны в Милютинском переулке (ул. Мархлевского, 16, во дворе). Получив письмо В. А. Жуковского, в котором содержались подробности последних часов Александра Сергеевича, он передал его Чаадаеву. Тот попросил разрешения немного задержать письмо, чтобы показать его Орлову, как он писал С. Л. Пушкину, «одному из самых горячих поклонников нашего славного покойника».
Жизнь Орлова в Москве, лишенного настоящего дела, парализованного своим поднадзорным положением, была тягостна. А. И. Герцен в «Былом и думах» дает ей такую оценку: «От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать «о кредите»,— нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было... Смертельно жаль было видеть Орлова, усиливавшегося сделаться ученым, теоретиком».
М. С. Лунин из сибирской ссылки, получив какие-то сообщения о московской жизни, желчно писал в одном из писем, имея в виду Орлова, что некоторые из «помилованных» «берут на себя роль угнетенных патриотов и возбуждают к себе удивление в своем околод-ке изданием книг, которых никто не читает, и попечительством над школами живописи».
Думается все же, что подобные приговоры слишком суровы. Бесспорно утверждение Герцена, что «не туда рвалось сердце», но позволим себе усомниться в том, что вся бурная разнообразная деятельность Орлова предпринималась им всего лишь «от скуки». И мепыне всего это относится к художественным классам.
Имя Михаила Федоровича Орлова вошло в историю русского искусства, он стал одним из организаторов Московского художественного общества и Художественного класса, который в 1843 году был реорганизован в Московское училище живописи и ваяния (разместилось на Мясницкой — ныне ул. Кирова, 21), а в 1865 году после объединения с архитектурным училищем — в Училище живописи, ваяния и зодчества, с которым связаны наиболее демократичные, реалистические тенденции в русском искусстве второй половины XIX века. Как впоследствии напишет В. В. Стасов: «Московская школа выполнила все горячие ожидания, она сделалась истинным рассадником лучшего, нового русского искусства, самостоятельного, национального».
Но возвратимся к истокам. Художественный класс вырос на основе небольшого кружка художников-профессионалов и любителей живописи, которые в 1832 году стали собираться на Ильинке (ул. Куйбышева, 14, дом не сохранился) для рисования с натуры. Это были Е. И. Маковский, А. С. Ястребилов, В. С. и А. С. Добровольские, И. Т. Дурнов, И. П. Витали и другие. 1 июня 1833 года был учрежден Московский художественный класс. Его первыми директорами стали адъютант московского генерал-губернатора Ф. Я. Скарятин, знаменитый историк, археолог и библиофил А. Д. Чертков и М. Ф. Орлов. Класс существовал на ежегодные взносы членов общества, составлявшие 250 рублей ассигнациями. Каждый такой член мог послать на обучение в Художественный класс двух учеников любого сословия, не исключая даже крепостных. Первоначально класс открывался на четыре года. В проекте устава указывалось, что главная задача класса «доставить жителям Москвы способы образования в художествах», ибо, как отмечалось далее, «сколько людей, рожденных для художеств, остаются без всякого образования и здесь, и в отдаленных частях России».