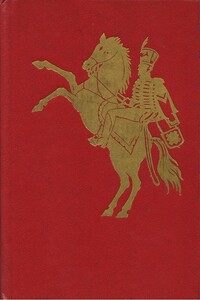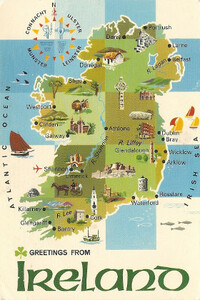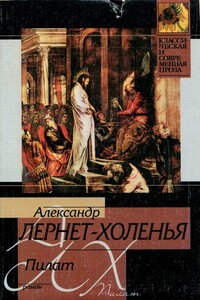Нарушенный завет | страница 26
Взволнованный этими мыслями, Усимацу долго не мог заснуть. Он лежал с открытыми глазами и думал о своей жизни. Опять появились мыши. Их шорох не давал ему заснуть. Усимацу зажёг потушенную было лампу и посветил на постель. Проворные маленькие зверьки сначала разбежались по углам, но потом, нисколько не боясь человека, принялись рыскать взад и вперёд, волоча за собой длинные хвосты. Они были и противны и забавны одновременно; в этих старых стенах их писк: «ки… ки…» усугублял тоску осенней ночи.
Мысли Усимацу перебегали от одного предмета к другому. Не давал покоя вопрос: как ему следует себя вести? Соблюдать настороженность? Нет, это же вызовет подозрительность. Чем больше он думал, тем больше ему казалось, что он перестарался. Отчего, когда изгнали из пансиона Охинату, он не сидел тихо? Отчего так растерялся, что сразу же перебрался в Рэнгэдзи? Отчего каждый раз, когда появлялась новая книга Иноко Рэнтаро, он с такой гордостью раззванивал всем об этом? Отчего он всегда так открыто защищал учителя и этим давал повод думать, что между ним и Иноко Рэнтаро существует какая-то связь? Отчего так часто упоминал его имя при других? Отчего не покупал его книги тайком? И отчего у него до сих пор не хватало ума читать их украдкой, наедине, у себя в комнате?
Почти всю ночь он метался без сна на своём тюфяке, терзаясь и дрожа от страха. Он обессилел от мучивших его сомнений.
Наутро Усимацу принял решение впредь быть более осмотрительным. Прошлого уже не вернёшь, но теперь он будет осторожней и ни о книгах Рэнтаро, ни о нём самом, решительно ни о чём, что связано с его именем, он ни с кем не обмолвится и словом. Вот до чего он будет осторожен!
«Храни тайну!» Да, завет отца дошёл до его сознания. Это поистине был вопрос жизни и смерти. Запреты, иссушавшие плоть буддийских послушников, прикрытую чёрной одеждой, по сравнению с этим заветом были ничто. Когда послушник не следует поучениям своего наставника, говорят, что он пал; когда же «этa» нарушает завет своего отца, он теряет всё. «Никогда не признавайся!» — твердил ему отец. Теперь он понял, что тот, кто вкусил настоящую жизнь и хочет в ней утвердиться, сам никогда не пожелает признаться.
Усимацу минуло двадцать четыре года. Наступила лучшая пора жизни человека. Он уже кое-чего достиг, и ему хотелось, по крайней мере, сохранить достигнутое. Но чем больше он этого желал, тем сильнее и неотступнее его преследовало сознание, что он — «этa». А жизнь казалась Усимацу такой прекрасной! И он говорил себе, что теперь ни при каких обстоятельствах не нарушит завет отца — завет жизни.