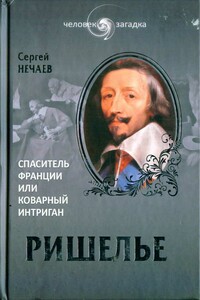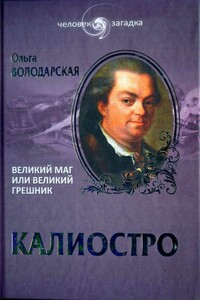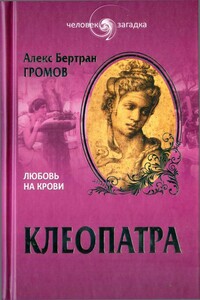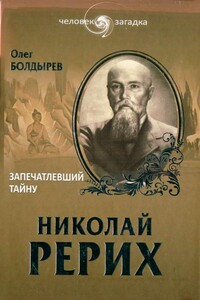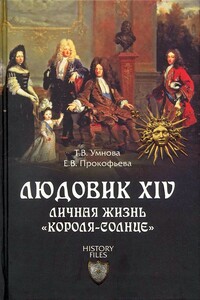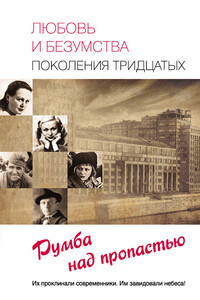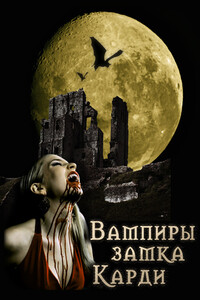Плевицкая. Между искусством и разведкой | страница 14
Правда, чем старше становилась Дежка, тем больше веселый нрав и любопытство брали верх над тем чистым восторгом, которым полнилась душа ее первые годы ее на земле. Восторг остался, конечно, но стал он иным: реальность забирала в плен, и все реже выпадали мгновения того ослепительного, с замиранием сердечным счастья, которым встречала она, едва научившись ходить, и первый увиденный цветок, и иней на стекле, и радугу…
Цветы, снег, радуга — все от Бога, от того, что господа «мечтою» зовут, а крестьяне — «баснью», но и реальное — то, что не от Бога, а от людей, — несло в себе красу и чудо.
Вот песни: разве не от реальности? Люди ведь придумали коленца плясовых, сложили песни — люди, а не Тот, кто создал этот мир во всем его многоцветье! Может, Он-то, если верить некоторым попам, Его служителям, не так уж благосклонно к этим песням относится… Хотя нет, в это Дежка не верила. Лгут все попы! Ведь есть святые песни: те, что для Него в церквах поются! Бесовскими называют те песни, что в хороводах-карагодах да на игрищах… Но ведь карагод — краса такая! Заглядишься, заслушаешься! И — радость, радость! Разве может быть — от нечистого? От нечистого — злоба и уныние. А радость вся — от Бога.
Было время, когда по приказам поповским музыкальные инструменты выискивали и разбивали, в костры бросали. Было время, когда песни и пляски считали грехом душегубительным, говорили: «Сии вси волсви плотяные бесове и слуги антихристовы, и сие творяще да будут прокляти!» А пуще всего ополчились святоши на женские пляски: «О, злое проклятое плясание! О, лукавыя жены многовертимое плясание! Пляшущи бо жена — любодейница диаволя, супруга адова, невеста сатанина; вси бо любящи плясание безчестие Иоанну Предтече творят — со Иродею негасимый огнь и неусыпающ червь осудит!» Говорили те святоши, что даже смотреть на пляски — грех: «Не зрите плясания и иные бесовских всяких игор злых прелестных, да не прельщены будете, зряще и слушающе игор всяких бесовских; таковыя суть нарекутся сатанины любовницы».
А Дежка так любила на карагоды глядеть! Мала она была — лет восемь или девять, — в такие годы девочек в карагоды еще не берут, а в некоторых местностях и вовсе к местам игрищ молодежи не подпускают. К счастью, в селе Винникове Курской губернии другие обычаи были, и девочка могла ходить на ярмарку, песни слушать, на пляски смотреть: «Метет, летает кругом яркоцветный, ликующий вихрь. Я ношусь от карагода к карагоду, Машутка едва за мной поспевает; она кличет меня — ей пить хочется, есть, а я не слышу; душа моя настежь раскрыта