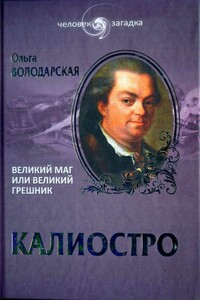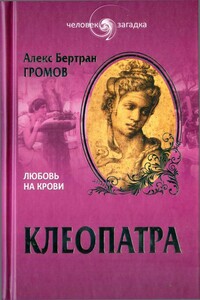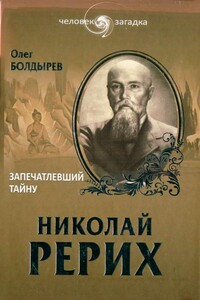Плевицкая. Между искусством и разведкой | страница 10
Качалась деревянная люлька, в которой до Дежки первые младенческие сны свои видели одиннадцать братьев и сестер ее, семеро из которых так и не захотели расстаться с блаженным младенчеством и войти в большой грозный мир и заснули навеки под землей в маленьких, похожих на люльки гробах.
Погост начинался недалеко от двора Винниковых, и тихими ночами умершие младенцы в своих подземных колыбелях могли слышать песню, которую пела Акулина Фроловна над живой, мерно качающейся колыбелью:
Колыбельных у Акулины Фроловны в запасе было много-много…
Потом из колыбельных Дежка уже выросла, но все равно любила сиживать рядом с матушкой и слушать, как она поет «священные» песни.
Только ради песни и могла на месте усидеть, потому как нраву была неугомонного, весела и любопытна не в меру. Жизнь деревенская проста и строга, все — по обычаю, все — по закону, и каждый обязан этот закон соблюдать: иначе чем мир-то держаться будет! А Дежечка с ранних лет обнаружила в себе бунтарский дух и все смирить его пыталась, да так и не смогла. Но то потом было, а в пору детства она принуждала себя к послушанию и очень хотела быть хорошей, причем хорошей, как все, именно «как все», а не как-то иначе. Того, что «на особицу», в деревне ведь не любят, видя в «особенном» зачатки бунта, способного порушить или хотя бы повредить веками создававшийся жизненный уклад. И вот старалась Дежечка быть, как все — отцу с матерью на радость.
Позже вспоминала она:
«Семеро было нас: отец, мать, брат да четыре сестры. Всех детей у родителей было двенадцать, я родилась двенадцатой и последней, а осталось нас пятеро, прочие волею Божьею померли. Жили мы дружно, и слово родителей для нас было закон. Если же, не дай Бог, кто „закон“ осмелится обойти, то было и наказание: из кучи дров выбиралась отцом-матерью палка потолще со словами:
— Отваляю, почем ни попало.
А вот и преступления наши:
Родители не разрешали долго загуливаться. Чтобы засветло дома были, наказывала мать, отпуская сестер на улицу, потому что „хорошая слава в коробке лежит, а дурная на дорожке бежит“. Вот той славы, „что на дорожке бежит“, мать и боялась. А если случалось, что мы заиграемся, забудемся, на выгон, из-за церкви, показывалась мать. Шла она медленно, будто прогуливаясь, руки держала позади — эту манеру мы знали: раз руки за спиной, значит, прячет палку. И когда в пылу веселья не замечали мы ее приближения, она подходила и „сызновости“ ошарашивала палкой старшую из сестер — „с тебя, мол, спроса больше“. Претерпев всенародный срам, мы бегом спешили домой, а за нами и улица расходилась: вслед за „Хроловной“ приходили „Федосеевна“ и „Поликарповна“ звать своих дочерей. „Вестимо: строгая мать — честная дочь“. Доставалось нам также и за „черное слово“ — чертушка, черт. Таким скаредным словом в доме у нас не ругались. А за ложь наказывали престрого