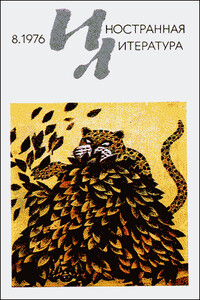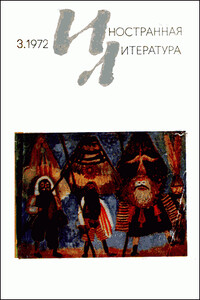Лондон: время московское | страница 7
— Даже губы женщины?
— Вы знаете, я склонен здесь не делать исключений. Нет! Ничего. Вы понимаете, я попробовал этот чай и в изумлении поставил чашку обратно. Он на меня посмотрел и говорит: “Это со мной случалось и случается постоянно. Не могу перестать думать: разве может быть такой необыкновенный чай? Я его пью каждый день, ну, это, в конце концов, не так уж много времени — последние шестьдесят девять лет”. Я говорю: “А можно где-нибудь… — такой низкий вопрос, — купить этот чай?” — омерзительный вопрос. Правда? Унижающий. Не человека. Человек сам настолько омерзительное явление, что его ничто не может унизить. А унижающий гостя Марко Паллиса. Он сказал: “О! Это совершенно невозможно. Мне не хотелось бы говорить о деталях, но если бы вы захотели его пить, как я, каждый день, то вы — извините, я не знаю вашего состояния — вы бы очень быстро разорились”. И дальше он произнес фразу, которую я не понял и которая, видимо, даже не относится к стандартной коммерческой чайной терминологии: “Это чай четвертого отлива”. Я сказал: “Как?” Он говорит: “Сейчас я вам принесу. Вы потрогайте его”. Он принес мне мешочек чая — чай был очень крупный — и говорит: “Вы посмотрите. Посмотрите на этот цвет. Якобы похожие чаи продаются на Джермин-стрит, но на самом-то деле, конечно, они нисколько не похожие, хотя стоят в среднем от десяти до двадцати раз дороже всех прочих сортов. Меня всю жизнь снабжают этим чаем мои старые друзья — с некоторыми из них я познакомился еще до Первой мировой войны. Когда была другая жизнь”.
Разумеется, когда я, выходя, надел плащ и уже спускался по лестнице, я обнаружил в своем кармане мешочек с чаем, который он туда положил. Марко говорил, что ему уже тяжело жить в таком огромном доме. Конечно, он жил в нем только потому, что раньше там жили его папа и мама. В этом же родовом доме Марко поселил своего старого друга, полковника англо-индийской армии колониальной службы.
— Гомосексуалисты?
— Мне кажется, что все это к нему неприменимо. Я не думаю, чтобы он когда-либо жил с женщинами или с мужчинами. Или с кем бы то ни было. Можно было потерять момент. В этот момент могло что-нибудь интересное произойти, а он… Так ведь это Марко Паллис, а не все мы.
В конце вечера я, решив нарушить все возможные приличия, прямо его спросил: “Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь в жизни были несчастны?” Он сказал: “О да! Я был несчастен два дня в моей жизни. Первый день — он был страшен. Первый день — это когда ко мне утром, до завтрака, пришли мама и папа и сказали: «Сынок, тебе уже семнадцать лет. Пришла пора отправить тебя в Оксфорд». «Зачем?» — спросил я. «Ну, ты знаешь, ты хороший, умный мальчик. У тебя способности к языкам. Ты интересуешься Востоком. Все дети наших друзей и дети друзей наших друзей учатся либо в Кембридже, либо в Оксфорде. И мы решили определить тебя в Оксфорд». Поскольку я очень любил папу и маму, не могло быть и речи, чтобы я им прекословил, — и вот наш шофер повез меня в Оксфорд. Я начал чувствовать себя несчастным с того момента, как сел в машину. Когда я приехал в Оксфорд, который очень хорошо знал и обожал, я подумал: «О боже, ведь такой прекрасный город, такой необыкновенно красивый город, но в нем есть что-то глубоко неприятное. И это глубоко неприятное — университет». В два часа дня я понял, что мне надо бежать. Как я дожил до пяти вечера, когда окончились все приемы студентов, я не знаю. Мне казалось, что от ужаса и несчастья я начинаю терять сознание. Я вышел на улицу, подозвал такси и сказал: «В Лондон, пожалуйста!» По приезде я сразу же пошел к отцу, он увидел мое лицо и произнес только одну фразу: «Ну ладно, сынок, не надо Оксфорда». Прошел еще один год счастливой жизни. Все было прекрасно. Но тогда отец сказал: «Ты знаешь, раз так, тебе надо привыкать к делам». Семейная фирма. И он меня отправил к дяде в офис заниматься торговлей. С восьми до двенадцати я рисовал средневековые замки. На бумаге, на которой я должен был писать меморандумы. Потом я стал рисовать сабли. Потом я стал рисовать ковры. К трем часам дня я понял, что умираю. Как и в Оксфорде, я не стал дожидаться вечера. Но на этот раз не нужно было брать такси — обливаясь слезами, я отправился домой пешком. «Опять не получилось», — сказал папа. «Нет, — сказал я. — Я так больше не могу. Мне кажется, что у меня вся жизнь пропадает». Вот два несчастных дня в моей жизни. Никогда с тех пор я не работал ни в одном офисе и не учился ни в одном университете. Это же невозможно, чтобы мне говорили: возьми какие-то там ковры и продай их, допустим, в Мадрид. Я же должен думать над коврами! Я должен созерцать ковры! В своей жизни я продал огромное количество ковров без всякого офиса. Я обожал свою торговлю! Ведь я знал эти ковры, я знал, кому их продаю! Я знал, что я делаю! И это делал я сам. Сам их находил, сам их нюхал, сам их трогал, это не были какие-то абстрактные вещи, которыми ты торгуешь, сидя в офисе”.