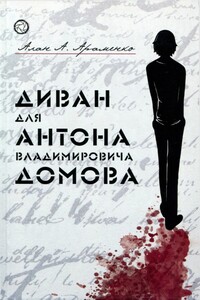Кавказские новеллы | страница 80
На мне было короткое клетчатое платье, зеленое с рыжим, и белые чулки. Я двигалась и чувствовала свою ущербность – Рома сидел где-то внизу, и я шла, старательно переплетая ногами, потому что там, где у Иры шли к коленям стройные ноги, у меня от худобы сквозь просвет мог проскочить кролик.
Ромка отчего-то весело смеялся и стал объяснять мне, что именно то, чего я так стыжусь, и есть самое очаровательное. Я ему не поверила, потому что у Иры никакого просвета выше колен не было, а она была эталоном.
Я словно и не имела своего тела, словно еще не облеклась в него, меня оно ждало во времени. Но я имела перед собой образец прекрасного, что делало меня абсолютно спокойной – придет время, и у меня будет такое же.
Рядом с Ламинкой я имела вид подростка. Несколько раз билетеры попытались не пропустить меня в кинозал на вечерний сеанс, мы были уже третьекурсницы, и я билась насмерть, доказывая, что я уже взрослая, просто у меня такой ненормальный вид.
При поступлении на филфак Ламинку заворожили мои белые гольфы, которые были неожиданны рядом с пюдекюром в открытых босоножках выпускниц владикавказских школ. К ее чести, она сразу рассмотрела за провинциальной инфантильностью мою личность.
С тех пор внешне флегматичная Ира годами выдерживала мою восторженность, выслушивая поток впечатлений от всего и вся, который поэтично сравнивала с журчанием ручейка. Наша дружба не имела проблем, мы никогда не спорили до хрипоты, не обижались, не ссорились. Мы были слишком разные, и обе были интересны друг другу.
За годы нашей учебы я наблюдала, как темнели волосы Ламинки, пока к окончанию факультета они не стали цвета потемневшей бронзы. Я любила Иру за человеческие качества в ореоле золотых волос.
Наша дружба была вместилищем общих интересов: английские фильмы, которые Ламинка ценила за скрытый английский юмор, итальянские, которые я ценила за смех над собой, Тони Кертис, на котором я бы не остановила своего взгляда, красавец Ален Делон, который вовсе не потрясал меня своей красотой. Потому что в те времена Эдик Амбарцумов, мальчик, который любил меня еще с 9 класса, имел черты лица Жана Марэ, обладателя самого мужественного лица в кинематографе. Я считала мужественность неотъемлемостью мужских лиц.
К тому же он терпеливо проделывал путь из своей первой бесланской школы к моей школе номер два, чтобы увидеть меня, а я имела особое удовольствие в том, чтобы прятаться от него.
Просвещенную Европу мы ценили больше, у американцев, кроме “Серенады солнечной долины” с оркестром Глена Миллера, и “Белоснежки и семи гномов” Диснея, которую крутили периодически, на тот момент трудно что-либо вспомнить. Потом все наши мальчики в городе заговорили фразами из «Великолепной семерки» – «Сатэро, друг мой!».