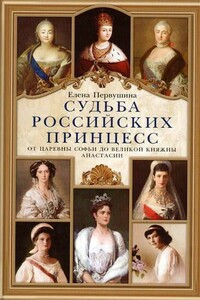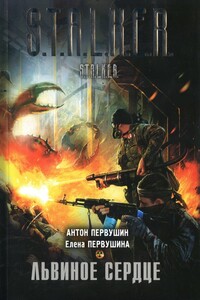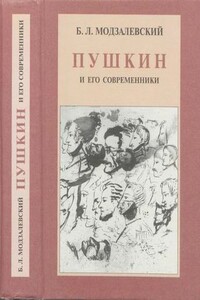Тургенев и Виардо. Я все еще люблю… | страница 32
Полина Виардо.
Куртавнель.
Понедельник, 29 апреля 1850.
Полдень
Добрый день, милостивая государыня. Guten Tag, theuerstcs Wesen[24].
Как вы себя чувствуете сейчас – в эту минуту? Вы только что встали (в Берлине одиннадцать часов) – слегка утомленная, но и, надеемся, очень довольная своим вчерашним триумфом.
Мы с Гуно[25] следовали вчера вечером за вами шаг за шагом. Мы говорили: «Сейчас она поет дуэттино»; «ах! теперь начинается «Ах, мой сын», и т. д. и т. д. По окончании оперы мы аплодировали и бросали цветы (это была ветка белой сирени). Надеюсь, что мы были не одиноки. C нетерпением ждем в четверг письма: в этот день Леже покажется нам прекрасней Аптиноя. Теперь, по крайней мере, никто не будет вас больше мучить, и Мейербер перестанет пить вашу кровь каплю за каплей. Итак, вам надлежит быть здоровой, очень счастливой, очень спокойной и очень веселой.
Вот уже три дня, как мы обосновались в Куртавнеле. Здесь – надо признаться – очень холодно – и если в Берлине ветер колюч, то на возвышенной равнине Бри он пронзителен. Однако мы довольны, что находимся здесь – и самый дом стряхивает с себя зимнее оцепенение, постепенно оживая. Пока никто из нас так и не взялся за дело. Третьего дня и вчера вечером Гуно немного поиграл нам – вот и все; но это еще впереди. Лодка спущена на воду, но пока отчаянно протекает – что делает ее мало пригодной для прогулок: надо подождать, пока дерево набухнет.
Портрет певицы Полины Виардо. Художник Петр Соколов. 1930 г.
Передайте Виардо, что я совершил большую экскурсию по окрестностям: отправился в Жарриель, оттуда в Водуа – из Водуа в Фонтен-Бернар и возвратился через Песи; дул такой ветер, что мог бы вырвать с корнем и дубы, а это очень неблагоприятно для охоты – и все же моя собака нашла 7 пар куропаток (так, как будто, называется их чета) – и 3-х перепелок; Султан обнаружил перепелку. Сиду давно пора уже возвратиться из Англии, потому что Султан определенно становится пожилым господином; это ветеран, который вскоре будет инвалидом. Прогулку эту третьего дня я совершил в одиночестве; вчера я отправился вместе с Гуно, и мы видели только двух куропаток и одного зайца – возле маленького виноградника.
Итак, я снова в гостеприимных стенах Куртавнеля, перед большим камином из серого мрамора. Я снова вижу бюст Тамбурини, так восхищавший Жана, и маленького, хромого и безухого вепря, а рядом большого коричневого пса с хвостом, свернутым колечком, – и ваш такой непохожий портрет работы Сантьеса, парный к портрету вашей матери… B каком я, 1850 или же 1849 году? Увы – в 1849 я и не помышлял еще о возвращении в Россию! (Только что мы, м-ль Берта, Гуно и я, показывали друг другу, сколько на каждом из нас одежек; таким образом, мы добрались до самой кожи, и м-ль Берта тоже – разумеется – на груди: каждый из нас даже предупреждал остальных о том, что дело дошло до кожи, дабы они успели пошире раскрыть глаза). Вероника готовит нам превосходные обеды, которые мы с жадностью поглощаем, а за утренним завтраком яростно спорим: парадоксальность моих доктрин вызывает негодование женской части нашего общества. По поводу доктрин; я читаю сейчас очень любопытное сочинение Вашингтона Ирвинга о Магомете: в характере этого необыкновенного человека весьма любопытно наблюдать смесь подлинного энтузиазма и хитрости, веры и ловкости. Ho я тоже скоро примусь за дело. Однако я замечаю, что мое письмо уподобляется плащу арлекина; поэтому предпочитаю продолжить его завтра. Сегодня же довольствуюсь тем, что как можно крепче жму вашу руку, желаю вам всего, что есть самого лучшего и прекрасного на свете – и уверяю вас в том, что ваши друзья верны вам – hasta la muerte