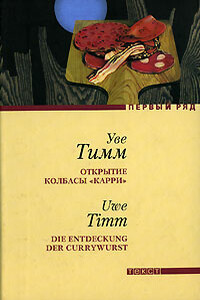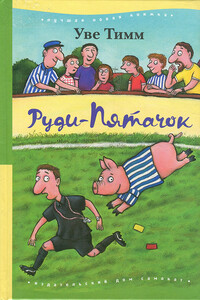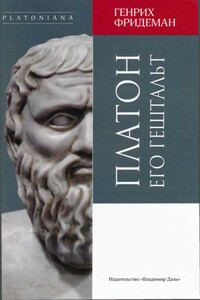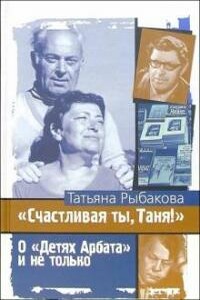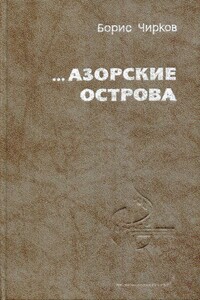На примере брата | страница 29
и сожжены, после чего производивших работы военнопленных расстреляли. Солярку, потребовавшуюся для кремации, списали по акту. Бухгалтерия смерти. Отто Олендорф, дипломированный экономист, начальник особой группы «Д»[21], дока по части статистки, оправдывал убийство девяноста тысяч человек, женщин и детей, ссылками на Библию: древние иудеи, дескать, тоже истребляли своих врагов подчистую. Человек-господин, особь господствующей расы. Сбылась мечта обывателя, стала явью его заветная мания величия: даже последнему ханыге проще простого было втолковать, что куда лучше в форме и при карабине охранять двенадцать работающих недочеловеков, чем корячиться самому. Вот и вся премудрость этой господской идеологии. Мифа о крови и сознания, что ты немец, было достаточно, не важно, ленив ты или труженик, глуп или умен, главное — ты принадлежишь к народу господ. Подобно знати, с которой отец столкнулся на Балтике, — только там кичились чистотой родословной, а здесь чистотой принадлежности к народной общности. И вот в ней, в этой ничем, кроме круговой поруки происхождения, не заклятой общности, которая почувствовала себя элитой, знатью, возвышенной над другими народами, — в этой общности СС, Силы Сопровождения, были образцом, элитой элит, у каждого из членов которой группа крови была вытатуирована на левом плече. Что, конечно, было продиктовано скорее практическими резонами — в случае ранения не нужно тратить время на анализ, — но, с другой стороны, в своем более глубинном значении отсылало к братству крови, к идеологии, которая постоянно, снова и снова апеллировала к крови, родословной, к породе. Зеркальным отражением этого действия была нумерация заключенных в концлагерях: им тоже татуировали номера, правда, на предплечье, пожизненно клеймя как изгоев рода человеческого. Номерами, одинаковым образом, были помечены и жертвы, и палачи.
И ничто — вот она подноготная, вот она отчаянная правда, — ни образование, ни культура, ни так называемая духовность, не удержало, не уберегло преступников от злодеяний. И то же самое, только в противоположной ипостаси — Жан Амери пишет об этом в своем эссе «У границ духа», — относится к жертвам лагерей: культура, образование не прибавляли человеку сил, не даровали утешения, не укрепляли волю к сопротивлению, — они не давали ничего. Зато у палача, как, например, у Гейдриха, когда он играл на скрипке, от переживаний дрожали губы.
Как пишет Жан Амери, жертвы ощущали другое:
Книги, похожие на На примере брата