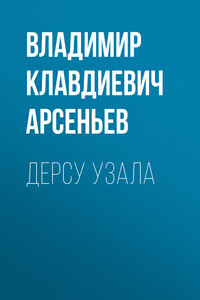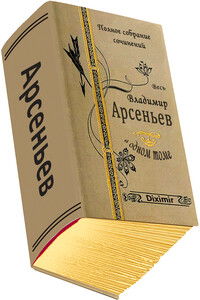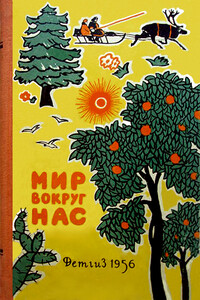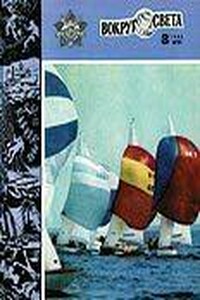Жизнь и приключение в тайге | страница 33
Мы подробно остановились на этом раннем «отчете», так как он служит убедительным опровержением утверждений о позднем формировании литературного таланта Арсеньева и поздней выработки его литературной манеры.
Художественный темперамент автора проявляется и в «Кратком очерке»: таковы описания тайги, почти целиком перенесенные из очерков, печатавшихся в «Приамурье», описания таежных балаганов и некоторые другие. Маленьким шедевром является среди них описание «поединков рыб (кеты)» «…они (самцы) гуляют спокойно, пока не появятся самки. Как раз к этому времени у самцов появляются большие острые клыки. Тогда начинаются поединки: эти рыбы донельзя драчливы. Я видел раз, как один самец схватил другого за спинку, и так обе рыбы шли не разделяясь, по крайней мере около двухсот шагов… Когда рыбы дерутся, они настолько ослеплены бывают яростью, что не замечают приближения человека. Обыкновенно в таких случаях надо бить нижнюю рыбу. Она думает (курсив наш. — М. А.), что боль причиняет ей другая (верхняя) и с своей стороны с еще большей яростью кусает ее» и т. д.[59].
Эти особенности писательской манеры Арсеньева привели некоторых исследователей и критиков к ложным представлениям о характере и природе основных книг В. К. Арсеньева и о месте их в географической литературе; их относят не к научным сочинениям в собственном смысле слова, а к произведениям «литературно-художественным» и даже «беллетристическим». В библиографическом указателе русской охотничьей литературы (1929), вошедшем в состав пятитомных «Основ охотоведения» Д. К. Соловьева, сочинения В. К. Арсеньева включены в раздел «охотничьей беллетристики»