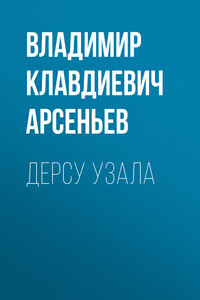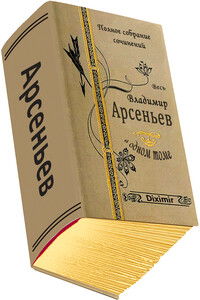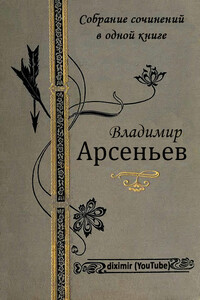Жизнь и приключение в тайге | страница 23
Совершенно бесспорно и литературное и биографическое значение этих очерков. Уже то обстоятельство, что они являются первой книгой В. К. Арсеньева обеспечивает им важнейшее место в истории его жизни и творчества. Существует два типа описаний путешествия: непосредственные дневниковые записи (в таком виде дошло до нас «Путешествие» Миклухо-Маклая) или их литературные обработки (таковы сочинения Пржевальского, Певцова, Грумм-Гржимайло и многих других, в том числе и В. К. Арсеньева). Но данные «Путевые очерки» занимают в литературе путешествий особое и оригинальное место, как своего рода промежуточная форма между дневниковой записью и ее последующей литературной обработкой. Они представляют первичную обработку, делавшуюся непосредственно на месте, во время экспедиции и порой в самых трудных и непригодных для нормальной литературной работы условиях.
При сопоставлении с позднейшим и окончательным текстом эта промежуточная редакция дает возможность внимательному читателю уяснить применяемые автором методы литературной обработки материала.
Но, помимо своего литературного и биографического значения, помимо значения краеведческого, это раннее произведение В. К. Арсеньева имеет еще большое воспитательно-педагогическое значение. Оно прежде всего значительно дополняет и обогащает наши представления об Арсеньеве как путешественнике. В его экспедициях было немало драматических моментов, где, казалось, была уже неизбежной трагическая развязка. Кто из читателей книг В. К. Арсеньева не помнит страшной «Пурги на озере Ханка» или невероятно тягостного Кулумбийского перехода, или катастрофы на плоту на реке Такеме. Самым же страшным и потрясающим эпизодом путешествий В. К. Арсеньева была голодовка на реке Хуту, подробно описанная им в книге «В горах Сихотэ-Алиня». Упоминается о ней и в «Отчете», наконец была еще особая (правда, немногим отличная от соответственного текста в книге «В горах Сихотэ-Алиня») редакция, опубликованная уже после смерти автора в журнале «На рубеже». Подробно описан этот эпизод и в очерке спутника В. К- Арсеньева, И. А. Дзюля. Этот эпизод занимает видное место и в данных очерках, причем из всех редакций этого рассказа текст «Приамурья» отличается наибольшей лаконичностью и драматизмом. Говоря о лаконичности, мы имеем в виду не краткость и сжатость рассказа, наоборот, подробностей в нем более, чем в других редакциях, но лаконичность повествования, придающая рассказу особую выразительность и силу. В позднейших редакциях многое уже обобщено и сглажено, кое-что сознательно упущено или не договорено — текст «Приамурья» сохранил первичную запись в дневнике, делавшуюся подчас усталой и ослабевшей от голода рукой без какой бы то ни было мысли о литературном плане и литературной обработке.