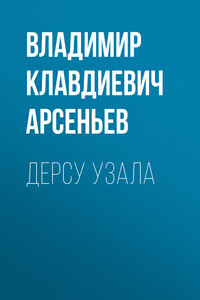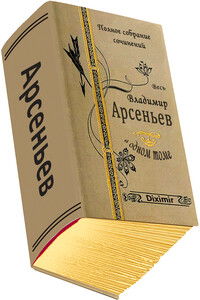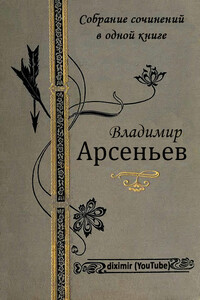Жизнь и приключение в тайге | страница 14
Л. С. Берг неправильно именовал задачи, которыми руководился Миклухо-Маклай, «филантропическими» (этот термин применял по отношению к нему и Д. Н. Анучин); великим исследователем руководили не отвлеченные «филантропические» задачи, но широкие гуманистические и принципиально-общественные идеи. Впрочем, тот же Л. С. Берг в другой своей статье, посвященной уже специально Миклухо-Маклаю, более правильно определяет основной смысл деятельности последнего: «В то время как другие географы открывали новые, доселе не известные земли, Миклухо-Маклай стремился прежде всего открыть человека среди исследовавшихся им первобытных людей, то есть, не затронутых европейской культурой народов». «Мы ценим его, — заканчивал свою характеристику Л. С. Берг, — как великого гуманиста, для которого не было высших и низших рас, как друга и защитника отсталых и угнетаемых народов, как борца за их свободу и право на самоопределение» [32]. Эта напряженная борьба, в которую весь ушел Миклухо-Маклай, действительно помешала ему так тщательно «отчитаться» в своих экспедициях, как это удалось сделать Пржевальскому; эта же борьба надорвала и физические и нравственные силы ученого, и он слишком быстро угас. По какому-то как будто злобному капризу судьбы в один и тот же год (1888) ушли из жизни оба великих путешественника, оба они скончались преждевременно и в полном расцвете сил: Пржевальский на 50-м году жизни, а Миклухо-Маклаю было всего лишь 40 лет. Миклухо-Маклай, по его собственному признанию, отошел от интересовавших его первоначально «зоологических вопросов» «ради вопросов по этнологии»; его внимание заняли всецело люди, которых застал он «в состоянии первобытного развития, не пережившего еще стадии каменного века» [33]. Но еще в большей степени его заинтересовали вопросы социальных отношений и социальной справедливости, что и привлекало усиленное внимание к его деятельности таких людей, как Лев Толстой или Тургенев.
Вопрос о сходстве и различии в деятельности обоих ученых разрешается вне проблемы «классики» и «романтики». Оба они классики, ибо их путешествия представляют образцовые и непревзойденные примеры, на которых учились целые поколения исследователей-путешественников; оба они романтики в лучшем смысле этого слова, как, например, понимал его Белинский, если разуметь под этим термином («романтизм») особую настроенность души, способность вносить в свое дело поэтическое начало и одухотворять его безграничным творческим энтузиазмом. И кто же, как не Пржевальский, с такой изумительной силой, с таким волнующим вдохновением раскрыл романтику путешествий по странам, куда редко ступала человеческая нога!