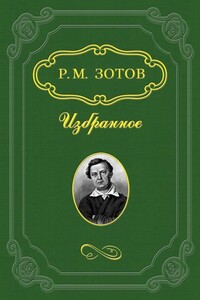При дворе Тишайшего. Авантюристка | страница 32
— Палач!
Боярин точно не слышал этого названия. Он придвинул единственную табуретку к пленнице и, придав своему лицу мягкое и нежное выражение, заговорил:
— Княжна, я пришел к тебе с миром! Хочешь ли дать мне руку?
Он взглянул на сидевшую перед ним женщину ласково и вопросительно.
— Волк в овечьей шкуре? — ядовито проговорила она по-польски. — А зубы-то… зубы все-таки волчьи видны! Боже! — заломив изящные ручки, простонала несчастная. — И когда-то я целовала, я миловала эти губы, эти кровожадные глаза!
Она в иступлении упала на свою жесткую сырую солому. Роскошная волна вьющихся пепельных волос разбежалась по ее худым, белым плечам и закрыла ее лицо.
— Ты и теперь любишь меня, Ванда! — нагнувшись к самому ее уху, прошептал князь. — И я за этим пришел… Я пришел сказать тебе, что виноват перед тобой, и, если ты хочешь, мир может наступить между нами.
Да, князь умел говорить ласковые, нежные речи, мог придавать своему суровому голосу мягкие ноты, а своему красивому, но мрачному лицу с суровым взглядом — любящее и страстное выражение.
Пленница при звуках этого, когда-то дорогого голоса подняла свою головку, откинула с лица волосы и устремила на него недоверчивый и изумленный взор.
Это была, вероятно, чудная красавица, да иначе князь Пронский, этот баловень женщин, не добивался бы с таким упорством ее любви; однако лишения и сердечные муки согнали с ее ланит нежную краску и положили темные круги вокруг великолепных синих глаз; эти глаза с длинными, загнутыми ресницами да зубы, ровные, как отборный жемчуг, только и остались от былой красоты. Маленький, прямой носик, заострился, как у живого мертвеца; бледные губы точно приросли к деснам, а ее грудь и щеки глубоко запали. На худых плечах висела выцветшая кацавейка небесного цвета, опушенная горностаем; голубой атласный сарафан и высокие польские сапожки дополняли костюм.
— А где мое дитя? — спросила полька своего мучителя.
— Ты увидишь его, когда…
Радостный крик огласил темницу, и пленница упала к ногам князя и стала ловить его руки. Ее бледные щеки окрасились легким румянцем, в глазах засветилась надежда, на губах появилась улыбка. Она вдруг стала прекрасной.
Борису Алексеевичу вспомнилось, сколько счастья пережил он на этой любящей груди, как ласкали его эти худые теперь ручки, какие нежные слова шептали ее бледные ныне уста, и страстно сжал в своих сильных руках ее тонкий, гибкий стан.
Полька склонила свою головку ему на плечо и, стараясь заглянуть в его глаза, защебетала, как ласточка: