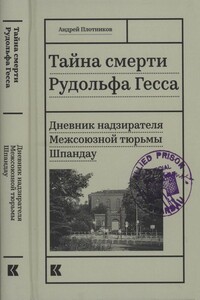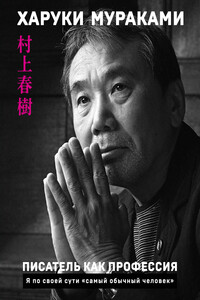Александр Порфирьевич Бородин | страница 5
В те времена гитара — «подруга семиструнная», как называл ее поэт Аполлон Григорьев, — была еще в почете. Ее стали считать «плебейским» инструментом позже, во второй половине века. Под гитару пели романсы Варламова и Гурилева, близкие к тем песням, которые распевал народ. Недаром романс Варламова на слова Цыганова «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» принимали за подлинную народную песню.
Так в звуках «чувствительного» романса доходили я до жителей столицы отзвуки народных напевов.
Бородин родился не в деревенской усадьбе, среди полей и лесов, а в городе. Ему не приходилось слышать в юношеские годы крестьянских девушек, с песнями ведущих хоровод, или слепцов, распевающих на сельской ярмарке духовные стихи. И все же до него и тогда доходили русские песни в их первоначальном звучании.
Между Петербургом и всей огромной страной шел постоянный обмен: романсы, сочиненные в городе, пелись в деревне, а деревенские песни добирались до города вместе с ямщиками почтовых троек, с артелями плотников, с обозами, которые везли припасы из поместий. Деревенскую песню можно было услышать в девичьей дворянского дома. Песни распевала прачка, полощущая белье, их напевала вполголоса портниха, склонившаяся над шитьем при неровном свете оплывающей сальной свечи. Случалось, что композиторы записывали народные напевы со слов деревенских девушек, которые, поступая «в услужение», приносили с собой не только бедный узелок с пожитками, но и невидимый, драгоценный клад — прекрасные песни своих родных мест. Об этих песнях Герцен говорил, что они для народа «выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы».
Римский-Корсаков рассказывает, что он «записывал песни от прислуги, бывшей родом из дальних от Петербурга губерний». «Однажды (это было у Бородина) я долго бился, сидя до поздней ночи, чтобы записать необыкновенно капризную ритмически, но естественно лившуюся свадебную песню («Звон колокол») от его прислуги Дуняши Виноградовой, уроженки одной из приволжских губерний».
Где-нибудь в деревне в приволжской губернии можно было слышать только приволжские песни, а в Петербург песни шли отовсюду, через все заставы.
В своей биографии Бородина В. В. Стасов пишет: «Казалось бы, сами обстоятельства жизни влекли к национальному элементу и творчеству Балакирева, Мусоргского и Римского-Корсакова. Все они родились вне Петербурга и объевропеенных центров; они родились и провели всю молодость свою в глубине России, в коренной национальной среде, в деревне… С Бородиным дело произошло иначе: он родился в Петербурге и здесь же провел всю свою жизнь. Лишь в зрелых летах случалось ему жить подолгу внутри России, в губерниях Московской, Владимирской, Костромской. И, несмотря на это, национальный элемент составляет самую могучую ноту в творчестве Бородина: в правдивости и глубине русского склада своих высших созданий он не уступает ни Глинке, ни своим товарищам в новой русской музыкальной школе. Каким образом случилось это изумительное превращение, вот психологическая тайна, которую не объяснит, конечно, никто».