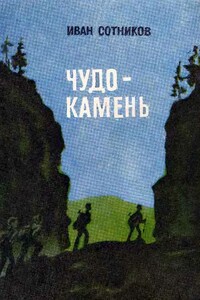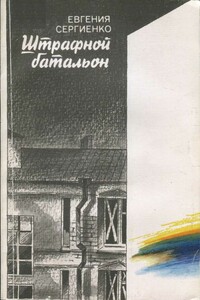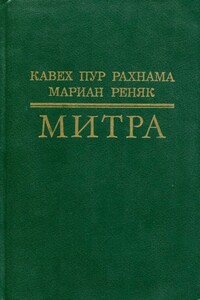Днепр могучий | страница 63
— Жуть, товарищ генерал, — глядя на поверженный Крещатик, сказал шофер. — Стихия!
— Нет, не стихия, — твердо сказал Хрущев. — Расчет. Преступный расчет. И в то же время просчет. Их просчет. Они думали оставить после себя мертвую землю, прах и пепел. Но из праха и пепла поднимутся новые города и села. И Киев поднимется и будет еще краше.
На Львовской к машине приблизился худой согбенный старик, попросивший закурить. Хрущев смущенно переглянулся с водителем. Впрочем, старого киевлянина нимало не опечалило, что оба некурящие. Им, случаем, не к Бабьему яру? Тогда по пути: ведь он, Луценко, можно сказать, оттуда — кладбищенский сторож с Лукьяновки. Слава богу, кончились черные дни. Да, он был здесь и все видел своими глазами. Только лучше б никогда не видеть такое.
У Луценко темно-землистое лицо, сухие руки с крючковатыми пальцами и глухой голос.
Хрущев глядел на него и дивился: живой свидетель самых чудовищных злодеяний немцев, — и всю дорогу расспрашивал старика.
— С чего началось, хотите знать? — неторопливо продолжал Луценко. — С плаката, страшного плаката. Красные листы с большими черными буквами гнали людей на улицу Мельника. Им велели захватить ценные вещи, теплое белье, продукты. А кто не явится, будет расстрелян. Куда деться? Со слезами читали, с ужасом шли.
В скорбной колонне этой были не только евреи. Эсэсовцы согнали сюда оставшиеся семьи коммунистов и комсомольцев, всех заподозренных в связях с партизанами и киевским подпольем, и просто советских людей, случайно оказавшихся на пути черных патрулей.
Слушая Луценко, Хрущев представил себе, как десятки тысяч людей, кто с узлами и тележками, а кто и совсем без ничего, просто с детьми на руках, тронулись в неведомый путь. О чем думали они, когда шли со всех концов города — с Подола и Печерска, с Бессарабки и Святошина, шли по Глубочице и Львовской, по Мариинской и Крещатику, шли навстречу страшной неизвестной судьбе?
У Федоровской церкви их останавливали патрули. Женщины и дети с испугом глядели на солдат в зеленых мундирах с черепами на рукавах и пилотках. Дальше пропускали уже без тележек. Вещи, которых не унести, оставались на мостовой. Провожающих эсэсовцы не отпускали и молча вталкивали в общий поток.
Хрущев содрогнулся и, чтобы отвлечься, огляделся по сторонам. Кругом еще безлюдье раннего утра. Мелкий сухой снег не в силах скрыть жестоких ран большого города. А старик все рассказывает и рассказывает. Где-то вот здесь была линия эсэсовских патрулей, отсюда гнали прикладами и дубинками, подталкивали штыками, тут падали первые жертвы.