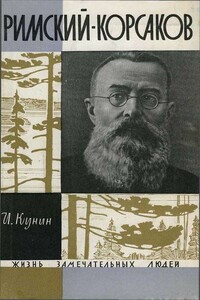Петр Ильич Чайковский | страница 57
Обороты городской и крестьянской лирической песни, привычные интонации ласки, жалобы, раздумчивого созерцания, бурного веселья впитываются Чайковским так глубоко, что становятся его естественным языком. Он «пишет по-русски», не думая об этом и не стараясь избегать чужого склада речи, переплавляя разнообразные художественные впечатления, расширяя и обогащая самое понятие русской музыки. Его романсы и фортепьянные пьесы, ближе связанные с традицией «гостиной», порою непосредственно соприкасающиеся с лирикой Шопена и Шумана, почти всегда больше, чем только романсы или пьесы. И в них веет чистый воздух полей и лесов, звучат отголоски и отзвуки народных напевов.
Таковы в особенности его «Времена года» — двенадцать фортепьянных пьес, двенадцать музыкальных картин, по одной на каждый месяц. Кашкин рассказывает, что, получив заказ на будущий год от издателя музыкального журнала, Петр Ильич просто поручил своему слуге в известное время напоминать ему о сроке. «Петр Ильич, пора-с посылать в Петербург», — аккуратно раз в месяц говорил слуга, и Чайковский в один присест писал пьесу и отправлял ее.
Этот рассказ, идущий, возможно, от шутливого ответа Чайковского на вопрос, как он пишет свои «Времена года», не вполне соответствует фактам; пьесы писались не так уж аккуратно и не обязательно по одной штуке в месяц[42]. Но, неверный фактически, рассказ Кашкина, превосходно знавшего своего друга и не раз наблюдавшего за скрытым ходом его творчества, не вовсе утрачивает значение. Много теряя в качестве справки, он приобретает зато суммирующие, обобщающие свойства, присущие анекдоту или легенде. В нем отлично передано действительно существовавшее у Чайковского ощущение безграничной легкости мелодического изобретения и полного владения жанром небольшой, технически не сложной пьесы для фортепьяно. Скромность задачи не помешала ему создать в этом роде музыки маленькие шедевры. Трогательно чистый «Подснежник» (апрель), нега и светлая печаль «Баркаролы» (июнь), глубокая грусть «Осенней песни» (октябрь), задорный, веселый звон бубенцов зимней тройки, заглушающий одинокое раздумье и увлекающий в упоительное движение-полет (ноябрь), — все эти пьесы, написанные для непритязательного домашнего исполнения, давно вышли на концертные эстрады мира.
Мировой славой пользуется очаровательно капризная миниатюрная «Юмореска», любимы и другие фортепьянные пьесы Чайковского, но несравненно большее значение имеют для его творчества и для развития русской музыки написанные им романсы. Один из современных исследователей, А. А. Альшванг, метко называет романсы Чайковского хранителями запаса живых, выразительных интонаций, проникающих отсюда и в его оперы, и в симфонии, и в квартеты, сообщающих им ту ни с чем не сравнимую задушевность, то тепло, без которых нельзя вообразить музыку Чайковского. В романсах, как в своеобразной звуковой лаборатории композитора, переплавлялись напевы городских и деревенских песен, ритмы народной пляски и бальных танцев, чтобы отлиться в новые художественные формы. Лирическая песня, отражавшая житейские впечатления и чувства городского и подгородного люда и так безобидно звучавшая еще у Варламова или Гурилева, была на ином историческом этапе поднята Чайковским на громадную высоту обобщения. В бытовой драме обыкновенного человека он раскрыл ее глубокое психологическое содержание.