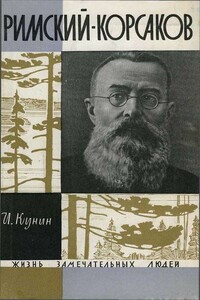Петр Ильич Чайковский | страница 53
Чтобы привлечь богомольцев, направлявшихся в Троицкую лавру[35] и встававших у них на ночлег, крестьяне сел Мытищи и Пушкино нанимали пастухов-рожечников, настоящих художников своего дела. «Чуть только, — пишет Богатырев, — разгорится заря на востоке и солнышко брызнет на зелень ало-золотистыми лучами, пастух уже стоит среди дороги на горке, и льется его звучная песня окрест, и, словно птица, распластав крылья, застывает в воздухе его дивная нота, растет и реет и широкими волнами разливается среди радостного утра в свежем кристальном воздухе». Тому, кто помнит пастуший наигрыш в «Евгении Онегине» после сцены письма, не надо говорить об этой музыке рассвета, зовущей из душного дома в широкий, светлый мир природы.
Эта музыка, еще не ушедшая из быта на концертную эстраду и театральные подмостки, еще не ставшая «ученой» и не разорвавшая связи между творцом и исполнителем, была тем не менее музыкой вполне профессиональной, опиралась на высокую художественную культуру и художественную традицию. Только профессионализм ее имел ремесленный, «дореформенный» характер, почему его и не признали музыкальные критики новой эпохи. Н. Рубинштейн думал иначе. В бродячих шарманщиках он видел «младших братьев». К Всероссийской выставке[36] он предлагал разослать в разные концы России лучшие силы консерватории (Рубинштейн намечал Чайковского, Лароша и Кашкина) для сбора образцов народного творчества и разыскания наиболее выдающихся народных певцов и музыкантов с тем, чтобы на выставке представлено было в своем подлинном облике народное искусство. Денег на эти художественные экспедиции отпущено, однако, не было, и проект был предан забвению.
Вступив в круг Н. Рубинштейна и тесно с ним в эти годы связанного А. Н. Островского, Петр Ильич сразу оказался среди. знатоков народного творчества. Здесь умели войти во все тонкости исполнения песни, умели разыскать и оценить редкий вариант напева. Превосходными исполнителями русских песен были Садовский и другие артисты Малого театра. Но, вероятно, глубже и пытливее всех вслушивался в народные напевы сам Островский. Песня была для него ключом к характеру персонажа, выразительным штрихом, рисующим бытовую обстановку драмы, а иногда и прямым источником творчества. Живой интерес к русской песне, так ярко проявившийся у Петра Ильича в последние годы его учения в консерватории, нашел в общении с Островским сильную поддержку и богатую пищу для дальнейшего развития.