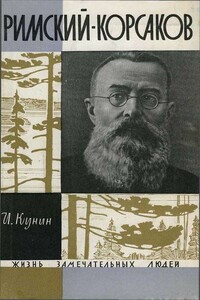Петр Ильич Чайковский | страница 51
Прошли годы. Чайковский покинул Московскую консерваторию и Москву. Умер Николай Рубинштейн. Улеглись, потеряли значение былые неудовольствия, обиды и огорчения. Осталось в памяти главное — общая работа на благо народа. Остался образ человека необыкновенной душевной щедрости и обаяния. В память своего друга Чайковский создал вдохновенную поэму, которая переживет многие памятники из мрамора и гранита, — трио «Памяти великого художника». Кашкин называет его «истинным выражением отношения Чайковского к Н. Рубинштейну». Можно довериться и другому указанию Кашкина: «Это трио, — писал он, — можно назвать гениальной музыкальной характеристикой Н. Г. Рубинштейна».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I. ВЕСЕННЕЕ ЦВЕТЕНИЕ
Первое крупное произведение Чайковского, симфония «Зимние грезы», открывшее московский период его творчества, написано по совету Николая Рубинштейна и ему посвящено. Это одно из самых обаятельных созданий Петра Ильича. Кажется, будто композитор не написал, а только записал ее, свою Первую симфонию, давно потаенно звучавшую на просторах России. Родным, с детства знакомым веет от нее, как от сияющего на солнце, чуть синеющего в тени снега на полотнах Левитана, как от черных обнаженных деревьев и сквозящего над ними легкого весеннего неба в картине Саврасова «Грачи прилетели».
В 1866 году, когда Чайковский писал «Зимние грезы», а Бородин начал работу над своей Первой симфонией, русские композиторы стояли перед труднейшими и интереснейшими задачами. Движение пробуждавшихся к новой жизни народных масс, трагедия русского крестьянства все настойчивее давали себя знать в искусстве, могущественно воздействуя на сознание умеющих слышать и умеющих видеть. Это глубокое подводное течение истории по-разному сказалось в творчестве разных композиторов. Балакирев и его друзья после первых поисков и первых находок обратились к образам народной фантазии и к изображению драматических эпох русской истории. В наследии Глинки они более всего оценили эпическую и героическую стороны. Гениальные ученики Балакирева Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков подошли вплотную к созданию русской исторической, народно-сказочной и народно-бытовой оперы и эпической симфонии. Даргомыжский, искавший поэзию и драматизм в повседневной жизни, все более совершенствовал после «Русалки» гибкий и выразительный речитатив своих романсов. Последние годы жизни он отдал опере «Каменный гость», где мелодия свободно следовала за всеми изгибами и оттенками пушкинского белого стиха. Русской симфонической музыке он подарил только несколько остроумных и сочных жанровых картинок — «Казачок», «Чухонская фантазия»