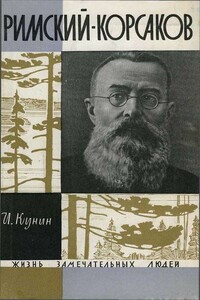Петр Ильич Чайковский | страница 31
Чайковского спасли от этой обидной участи накопленные им душевные богатства: и глубоко запавший ему в сердце протест против общественной несправедливости, и навеянные передовой русской, литературой высокие идеалы человечности, и способность глубоко чувствовать, и жажда выразить свои чувства. Ведь музыка для него, задолго до того как она стала забавой и развлечением светского времяпрепровождения, была настоятельной внутренней потребностью.
Интересны в этом отношении воспоминания его двоюродной сестры и друга юности А. П. Мерклинг, относящиеся еще к середине 50-х годов: «В это время его часто заставляли играть что-нибудь, что он играл по слуху. Он не любил этого и исполнял небрежно, только бы отделаться. Помню, меня это поражало. Поражало меня также выражение его детского личика, когда он играл один, для себя, смотря куда-то вдаль и, видимо не замечая ничего из окружающего. При этом стоило заявить свое присутствие и как-нибудь обратить внимание на его фантазирование за роялем, — когда он думал, что его никто не слышит, — как он умолкал и бывал недоволен, если его просили продолжать». Фантазирования Чайковского за роялем слышавший их несколькими годами позже Кюндингер называет в своих воспоминаниях поражающими и блестящими.
В этих свободных импровизациях за фортепьяно, как можно думать, в гораздо большей мере, чем в романсах, сочиняемых для товарищеского круга, искало выхода его душевное содержание. Внутренний рост неуклонно продолжался под покровом рассеянной светской жизни. Именно в эти годы сильнейшим художественным впечатлением Чайковского стал спектакль «Гроза» Островского на сцене Александринского театра. В роли Катерины выступала Ф. А. Снеткова, Тихона играл А. Е. Мартынов. Так неизгладимо врезались в память Чайковского созданные ими потрясающие образы, что Снеткова и Мартынов сделались отныне его любимыми артистами. На представлении присутствовал Апухтин и, по свидетельству критика П. В. Быкова, пережил глубокое волнение. Апухтин, вероятно, ознакомил Петра Ильича с появившейся вслед статьей Добролюбова «Луч света в темном царстве», необыкновенно сильно и проницательно истолковавшей общественный смысл пьесы. Какой глубокий след оставила «Гроза» в сознании Чайковского, мы еще увидим впоследствии.
Наряду с драматическим театром — живым источником, питавшим его воображение, была опера. Неизменно любимый Чайковским «Волшебный стрелок»[9] Вебера стал ему известен в 1852 году. Еще сильнее оказалось воздействие моцартовского «Дон Жуана», пережитое им несколькими годами позже. «Мне было шестнадцать лет, когда я услышал впервые «Дон Жуана» Моцарта. Это было для меня откровением: я не в состоянии описать подавляющую силу испытанного мною впечатления, — говорил Чайковский в конце жизни. — Мне кажется, что испытанные в годы юности художественные восторги оставляют след на всю жизнь».