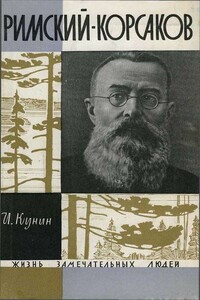Петр Ильич Чайковский | страница 26
Поэт взял простое, будничное явление, которое, окажем словами Модеста Чайковского, «в других не вызывает ни улыбки, ни злобы». И вот в этом примелькавшемся и потому уже не замечаемом явлении он неожиданно раскрыл историю заглохшей женской души, показал человека в забитом жизнью труженике. Этот будничный трагизм, эта щемящая лирическая нота, так неожиданно пробившаяся в конце стихотворения, чрезвычайно близки духу зрелых стихотворений Апухтина (сравним: «В убогом рубище, недвижна и мертва, она покоилась среди пустого поля»). Вспоминаются также потрясающие тем же будничным трагизмом, той же безропотностью, той же за сердце берущей безответностью, но только согретые изнутри горячим чувством, женские монологи-исповеди Чайковского: его песни и романсы «Я ли в поле да не травушка была» или «Лишь ты один».
Помимо своих очевидных художественных достоинств, «Палашка» едва ли не единственный в своем роде поэтический отклик на знаменитое письмо Белинского Гоголю. Россия, писал в нем с болью и гневом великий критик, «представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми… страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками…»
Эти строки, ставшие подразумеваемым эпиграфом к стихотворению, можно было прочесть в журнале Герцена «Полярная звезда», где письмо Белинского было впервые напечатано в № 1 за 1856 год. Знал ли Апухтин этот журнал? Нет сомнения, что он еще на школьной скамье читал герценовские издания, формально запрещенные, фактически легко в те годы доступные. Не случайно в бесспорно ему принадлежащем стихотворении «Селенье» есть строки, варьирующие стихотворение-песню Рылеева, опубликованное в той же «Полярной звезде».
Вероятно, именно через Апухтина узнал сочинения Герцена Чайковский, отзывавшийся о нем впоследствии как о «поразительно умном и талантливом человеке».
Не следует думать, что знакомство с «Колоколом» и «Полярной звездой» было широко распространенным явлением среди правоведов тех лет. В военно-учебных заведениях, вспоминает Мещерский, «брошюры Герцена читались, сваливаясь с неба, и я помню при встрече с юнкерами-сверстниками разговоры о том, что у них классы делятся на герценистов и антигерценистов». Не то было в Училище правоведения: «Я не помню, чтобы где-либо его читали или чтобы о нем говорили». Апухтин с его литературными связями, с его радикально-демократическими настроениями резко выделялся на этом фоне. Много позже, вспоминая о школьной дружбе с Чайковским, он писал: