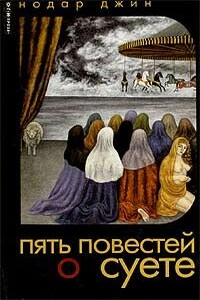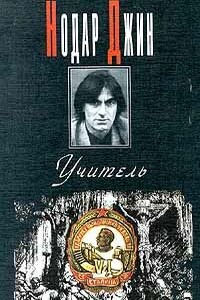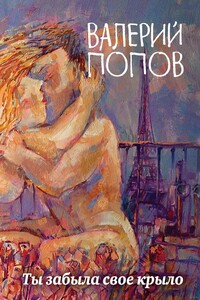Повесть о глупости и суете | страница 50
— Летим-то, сам понимаешь, на похороны.
Я бросил взгляд в сторону стоуновских штиблет, но промолчал. Говорить было не о чём, и Гена это осознал.
— Ты бы подумал, а? — всё-таки продолжил он.
— Я? — ответил я. — Подумать, конечно, подумал бы, но со страхом. А сейчас — ничего: кажется уже нормальным…
— А почему не хотел? — оживился Гена и отпил ещё. — Это мне очень интересно! Я скажу честно: все вот кричат «ура!», а мне грустно. Но объяснить этого, понимаешь, не могу.
— Кто кричит?
— Да все: и внизу, и наверху…
Я задумался. Хотя труднее было представить кто ликовал наверху, спросил я о Джессике:
— Даже Джейн Фонда?
— Про неё как раз не пойму, — признался Краснер.
— А как Займ? Ну, сидит там внизу рядом со мной и с Фондой.
— Знаю его! Длинный и лысый, да? Фрондёр! Места уже себе не находит! Ешё и воришка: я, мол, беру обратно свои слова, что пол-России — полные кретины; пол-России — не полные кретины. А сказал это впервые кто-то другой, не он… И про Маркса…
Я продолжал не понимать:
— А при чём тут кретины? Или Маркс? И кому он это сказал?
— У Чарли Роуза, на ток-шоу, — ответил Гена. — Тот пригласил его и стал рассказывать про поездку в Совок. Хоронить, мол, там уже нечего: разве что Ленина. А Займ этот стал хохотать, как будто это смешно! А от себя добавил про погребальный дым отечества. Надо, говорит, хоронить как в Индии: спалить и — по воздуху. Чтоб не ожил. Такой, мол, дым отечества мне и сладок, и приятен!
— А при чём тут всё это? — не понимал я.
— А при том, что и подлецы верят: de mortis aut bene aut nihil!
— Не понял, — сдался я.
— Это латынь! — пояснил Гена. — О мертвецах, говорю, либо хорошее надо, либо — молчок…
— Не понял другого, — пояснил я. — Не понял про какие похороны мы тут говорим и какого покойника ты жалеешь?
— Того же самого! Я всегда твоим чувствам доверял. Давай-ка выпьем за это! — и, отпив из бутылки, отёр губы. — А ты-то можешь объяснить почему нам его всё-таки жалко, а? Я не могу: чувствую, что нехорошо, а почему не знаю… И не потому даже, что это — родина! Если бы даже такое произошло на луне, всё равно было бы грустно!
23. Не Маркс — сволочь, а человек — свинья
Я догадался, что мы имеем в виду разных покойников. Краснер говорил не про Стоуна. Он говорил про социализм, и грусть его представилась мне такою понятной, что я нашёл возможным её объяснить:
— Объясню и себе, — сказал я. — Грусть эта, Гена, приходит оттого, что уходит странная иллюзия, будто кто-нибудь или что-нибудь лучше, чем мы сами. Все мы тайком знаем себе цену — и она нас не впечатляет. Мы понимаем ещё, что если все устроены так же, как и мы, а не лучше, наши дела плохи хотя бы потому, что к нам, стало быть, относятся — как сами мы к другим…