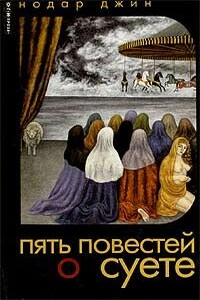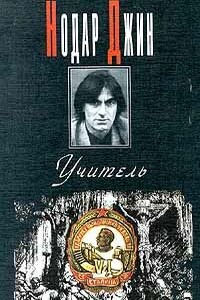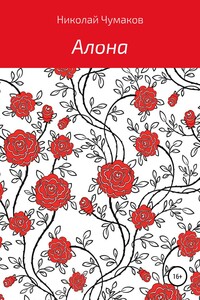Повесть о глупости и суете | страница 33
Кто они? Такие же ли, как я и другие петхаинцы? И что помнят, что знают?
Каждый год в праздник Исхода я бубнил придуманную мной молитву, заклинавшую судьбу погнать меня странником по всем местам, в которых осели потомки людей, познавших как исход, так и изгнание. В тот же день, когда я обратился к властям за разрешением на свой собственный исход, я ушёл из дома с сумкой за плечами, в которой помимо водки и фотокамеры лежали часы деда, карта со стены над кроватью и синяя тетрадь для путевых записей.
Перед выходом на порог я записал в эту тетрадь своё первое ощущение. Испытанное другим человеком много столетий назад: «Если не я, то кто? И если не сейчас, — когда же?» Так началось моё двухлетнее хождение по той стране, обещавшее неизведанные страхи, открывающие ещё одну истину, что быть живым — это роскошь, ибо живём мы меньше, чем не живём.
17. Близость главного одиночества
Через год после начала странствий я оказался в Вильнюсе, в синагоге на Комьюонимо, — единственно уцелевшем символе былого величия «Литовского Иерусалима».
Стены просторного зала, расписанные когда-то бронзовой и голубой красками, почернели и потрескались. Узкие оконные просветы пестрели картонными заставками. Рядом с роскошной люстрой без огней свисал провод с тусклой лампочкой на перебинтованном изолентой низком конце. Прохудившаяся ковровая дорожка бежала от двери к помосту в конце зала, подчёркивая наготу дубового пола с выщербленными планками. Даже воздух застоялся с былых времён.
Единственное, чего не удалось истратить годам и нищете, располагалось на помосте: зелёные мраморные колонны, и за ними — белый шкаф для свитков Торы. На дверцах шкафа горела в полумраке звезда Давида и светились бронзовые письмена: «Ми камха баелим адонай» — «Кто сравнится с Тобою, Господи?»
Впритык к помосту стояли скамейки с высокими спинками, а на скамейках, поёживаясь от холода, сидели вроссыпь, как вороны на проводах, восемь безбородых старцев. Каждый сидел в собственной позе устаашего человека, но в каждой из этих поз проступало то особое состояние одиночества, которое возникает не от долгих лет существования или покинутости людьми, не от изжитости надежд или истраченности страстей, но от близости иного, главного, одиночества — одиночества могилы.
Кто знает, думал я, шагая к ним по дорожке, быть может, поэтому старые люди и кажутся мне носителями единственно возможной, нездешней, мудрости. Той самой, которая уже пробилась к ним из близкого теперь пространства небытия. Не жизнь делает человека мудрым, а приближение смерти.