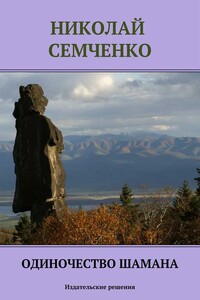Двадцатый век. Изгнанники: Пятикнижие Исааково. Вдали от Толедо. Прощай, Шанхай! | страница 49
А сейчас держись за стул, чтоб не упасть: невзирая на возвышенность данного момента, мне было не суждено принести победу на кончике своего штыка или хотя бы сложить голову на поле брани, потому что для меня лично, как и для моего дорогого шурина ребе бен Давида, как, впрочем, и для всех мобилизованных, собравшихся на рыночной площади Колодяча, война снова окончилась, не успев начаться.
Все дело в том, что и я, и Сара с детьми, и ребе Шмуэль бен Давид, и мама с отцом, и все наши дорогие соседи — пан Войтек, поляки, украинцы, евреи и даже немецкая семья Фрица и Эльзы Шнайдеров — все-все, включая ксендза и батюшку, в то, именно в то утро, дождались воплощения нашего очередного национального идеала. Или, как сообщил политический комиссар Никанор Скиданенко с брони русского танка, все мы были освобождены от гнета панско-помещичьей Польши и присоединены к своему рабоче-крестьянскому отечеству, великому Советскому Союзу.
Итак, брат мой, мечта, о существовании которой я и не подозревал, исполнилась, как говорится в профсоюзных рапортах, на все 100 процентов, и я стал сознательным гражданином, проживающим в советском местечке Колодяч, бывшей австровенгерской области Лемберг, бывшего Львовского польского воеводства, а в настоящее время — форпоста мировой революции.
ТРЕТЬЯ КНИГА ИСААКОВА
Ротфронт, или Пятилетку — досрочно
Прошу меня простить за то, что начну с хохмы (что, как ты помнишь, читатель, означает хасидскую притчу, как правило, не смешную), но может быть, сделав над собой известное усилие, ты поймешь ее мораль. Речь в ней пойдет о слепце Йоселе, которого даже дети, склонные поиздеваться над любым несчастным, почтительно переводили через улицу. Так вот, как-то раз этот Йоселе, постукивая своей палочкой, пришел к раввину и спросил его:
— Ребе, что ты сейчас делаешь?
— Пью молоко.
— А что такое «молоко», ребе?
— Это такая белая жидкость.
— Что значит «белая»?
— Ну, это… белое, как лебедь.
— А что такое «лебедь»?
— Такая птица, с длинной изогнутой шеей.
— А «изогнутая» — это как?
Раввин согнул руку в локте:
— Вот пощупай и поймешь.
Слепой Йоселе внимательно ощупал согнутую руку и благодарно сказал:
— Спасибо, ребе, теперь я знаю, что такое молоко.
Точно так же и ты, дорогой мой и терпеливый читатель, не заблуждайся ни по поводу моей согнутой руки, которой я пишу эти строки, ни по поводу моих робких попыток объяснить тебе суть происходящего — не питай иллюзий, что ты, подобно слепому Йоселе, сможешь понять, что такое молоко или что такое моя новая родина СССР. Ведь я тоже так никогда и не узнал, было ли похоже то, что происходило в Колодяче под Дрогобычем на то, что случалось, скажем, в Тамбове или Новосибирске, и одинаково ли воспринимали понятие «советское» и там, и там или в юртах где-нибудь в пустыне Каракумы. Поэтому я до сих пор злюсь, когда какой-нибудь заезжий журналистишка, заскочив на три дня в Москву, затем с апломбом знатока объясняет в своих писаниях — в зависимости от своих политических пристрастий — невежественному слепому миру, что такое молоко, не давая себе отчета в том, что лишь ощупал согнутый локоть Москвы, и что добро может казаться обманом и ложью, а якобы явное зло, от которого мы спешим отмежеваться, — непонятым и неоцененным добром. Особенно если вспомнить, насколько же широка эта моя новоприобретенная страна — настолько, что из некоторых мест сподручней смотаться за мясом в Японию, чем съездить в ближайший советский город, ведь именно с тех далеких сибирских земель долетел до нашего Колодяча слух об истории с гражданином, который спросил в местном советском мясном магазине: «Можете мне взвесить полкило мяса?», на что ему вежливо ответили: «Конечно. Приносите — взвесим».