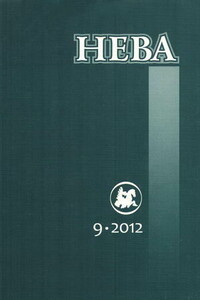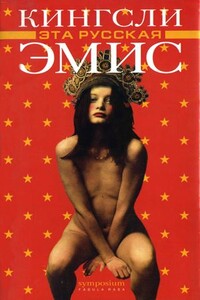Двадцатый век. Изгнанники: Пятикнижие Исааково. Вдали от Толедо. Прощай, Шанхай! | страница 20
Я не поверил своим глазам и ушам. И в полном изумлении, подхватив чемоданчик, зашагал за дядей. Маршалы и кронпринцы мельком скользнули по нам взглядом, не обратив особого внимания — здесь следует добавить, что я был хоть и провинциально, но все же прилично одет (не забывайте, кем был мой отец Якоб Блюменфельд, и что он, по его словам, шил красные мундиры даже для драгунов лейб-гвардии Его Величества).
Внутри вся эта роскошь выглядела еще более головокружительно — с пальмами в кадках под хрустальными люстрами, разодетыми людьми, спускавшимися по широкой лестнице, устланной нежно-голубой ковровой дорожкой — дамы в платьях по моде тех лет, перехваченных лентой над коленями, с сигаретами в длинных мундштуках и господа во фраках, словно сошедшие с картинок на окнах нашего ателье в Колодяче. По этой лестнице спускались и однорукие блестящие офицеры с глубокими шрамами на лице — пустой рукав мундира пропущен под поясной ремень — в моноклях, типичные немцы. Похоже, быть одноруким со шрамом на щеке считалось здесь модным, потому что немцы выступали надменно и гордо, как махараджи на белых слонах. Парнишка — из тех, с золотисто-синими кастрюльками на голове — звонил в колокольчик, звонил нежно, чтоб никого не потревожить, а на небольшой черной доске, которую он держал в руках, мелом было написано: «господин Олаф Свенсон». Думаю, Олафом Свенсоном был не он сам, а лицо, которое он разыскивал.
Мало сказать, что у меня шла кругом голова — горло у меня пересохло, мне казалось, что с минуты на минуту сюда ворвутся полицейские и арестуют и меня, и дядю Хаймле как людей, незаконно вторгшихся на экран чужого фильма или мошенников из Колодяча под Дрогобычем, которые с дурными намерениями проникли в этот розовый, золотисто-синий ароматный чуждый им мир.
По ассоциации с мошенничеством, глядя на мраморные столики, за которыми дамы пили кофе со сливками, деликатно лакомясь теплым штруделем, а важные господа читали газеты на тонких бамбуковых подложках (я имею в виду газеты, а не господ), и на кокетливо изогнувшиеся венские вешалки у столиков, на которых висели такие умопомрачительные пальто, каких мы в Колодяче отродясь не видели, я вспомнил историю, случившуюся, вероятно, в подобном месте:
— Простите, это вы — Мойше Рабинович?
— Нет.
— Видите ли, дело в том, что Мойше Рабинович — это я. А вы почему-то надеваете мое пальто!
Но мне в тот момент было не до колодячских историй, а еще меньше — до желания надеть чужое пальто. В этот момент дядя Хаймле подошел к важному господину в ливрее — здесь невозможно было понять, кто из них господа, а кто — слуги, потому что этот, к примеру, выглядел как собственник конезавода на пятьсот лошадей. Он свысока глянул на дядю, затем чуть склонился и приблизил свое ухо к его лицу — похоже, дядя от смущения говорил слишком тихо, так что ему пришлось повторить свой вопрос еще раз в склонившееся к нему ухо. Конезаводчик удивленно поднял брови, дядя сунул два пальца в карман за чаевыми, но явно передумал и с суетливой любезностью предложил ему сигарету. Тот с еще большим изумлением глянул на пачку сигарет и брезгливо покачал головой — или был некурящим, или, что более вероятно, пришел в ужас от предложенной ему низкопробной махорки. Вторая гипотеза кажется мне более правдоподобной.