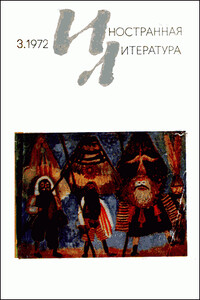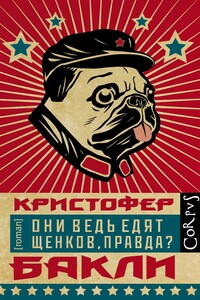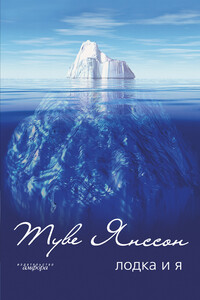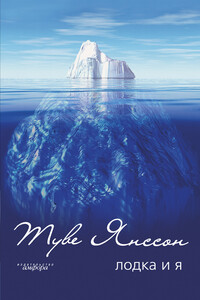Двадцатый век. Изгнанники: Пятикнижие Исааково. Вдали от Толедо. Прощай, Шанхай! | страница 13
— В каком смысле, госпожа Ребекка? — спросил пристав.
— В смысле ситуации на фронтах.
— Для нас — хорошо.
— Для нас? — удивленно переспросил дядя Хаймле.
— Я сказал «для нас», а не «для вас».
Все знали, что пан Войтек — поляк, и что понятия «нас», «вас» и «их» в Австро-Венгрии были весьма деликатной сферой, в которую евреям не следовало вмешиваться, поэтому дядя и отец лишь переглянулись, глубокомысленно кивнули и почти одновременно произнесли:
— Истинно так.
У меня сложилось впечатление, что все было совсем не так.
Ребе Шмуэль бен Давид, наш раввин, уже дочитывал молитву, когда я вошел в синагогу или по-нашему «Бейт-Тфила», дом молитвы. Не думайте, читатели мои, что это было нечто импозантное, с мраморными колоннами и прочим, нет — самое обычное помещение с побеленными стенами и небольшим деревянным возвышением перед выцветшим занавесом с вышитыми на нем сакральными словами и знаками, из-за которого в Песах, то есть на еврейскую Пасху, выносили все Пятикнижие. Наша синагога не походила ни на католический костел с его сияющими разноцветными витражами с изображением святых и распятого Иисуса Христа, со статуей Богоматери и прочими красочными христианскими атрибутами; ни на маленький православный храм на том берегу реки с разноцветными иконами, позолоченным иконостасом и яркой настенной росписью с изображением библейских сцен, которые я так любил рассматривать ребенком. Поп Федор обычно хватал мелюзгу за ухо и выкидывал за порог, злобно шипя: «Евреи, вон из Храма Господня! Вы, продавшие Христа! Распявшие его!» Мы, ребятня, много раз пытались ему объяснить, что это очевидное недоразумение — мы ведь не покупали и не продавали их Христа, но отец Федор бросал в нас камни, натравливал собаку, и мы все откладывали рассмотрение тех волнующих картинок на потом — до более подходящего случая. Так вот, наша синагога была не такой — в синагогах запрещены изображения, скульптуры и подобные вещи; каждый должен иметь возможность представить себе Яхве так, как ему подсказывает его сердце (а не отвлекаться на разглядывание библейских сценок), вступать с Всемогущим в тихий задушевный разговор, если нужно — пожаловаться Ему на свою судьбу (а где вы видели еврея, который не жаловался бы на свою судьбу?), а Яхве (в переводе — «Тот, Кто Есть») тоже может тебе пожаловаться на то, что, скажем, жизнь дорожает, что сегодня буханка хлеба стоит столько, сколько раньше стоил пуд пшеницы, что и на небе фураж для лошадей никто не дает бесплатно, что на нем висит задолженность по кредитам, взятым на строительные нужды еще во времена Сотворения мира и все в таком роде — как это делает каждый порядочный еврей, когда другой еврей жалуется ему на свою тяжкую долю. Тогда первый обрушивает на него свои беды, оттягивая неприятный момент, в который у него попросят взаймы. Яхве (Тот, Кто Есть) — Он ведь не вчера родился, Он свое дело знает уже несколько тысяч лет, а то и больше. Важно ведь пожаловаться, даже поплакать — это приносит облегчение. Но я слишком отклонился от темы, как Соломон и Аарон, которые так увлеклись жалобами на жизнь, каждый — из опасения, что другой попросит у него взаймы, что не заметили как свернули с дороги и вместо Вены оказались в Варшаве.