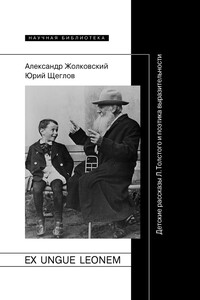«Затоваренная бочкотара» Василия Аксенова | страница 54
Естественно считать, что этот эпизод метафорической смерти/возрождения во сне – первый, но не последний в повести – отмечает начало того перерождения менталитета, освобождения от фальшивых приманок («симулякров») советской культуры, обращения к первичным, хотя бы и несколько расплывчатым и утопическим неофициальным идеалам естественного бытия, беззаботности, терпимости и братства, которое составляет сквозную тему ЗБ.
Квазисмерть и перерождение – универсальный сюжетный архетип, типичный для повествований о моральной трансформации, рождении «нового человека». Его типичными моментами являются:
(1) попытка враждебных сил поглотить или иным способом уничтожить героя; его телесное увечье или тяжелая болезнь, часто с потерей сознания и амнезией; глубокий, порой летаргический сон;
(2) пожар, уничтожающий элементы прежней жизни;
(3) так или иначе вмешивающаяся в жизнь стихия воды;
(4) утрата традиционных наставников, чаще всего родителей, а на втором месте по частоте – утрата супруга (при несчастливом браке) или ложно почитаемого безжизненного идола; замена их новым руководителем на жизненном пути – «вторым отцом» или новой, более подходящей для героя подругой жизни;
(5) пребывание в одиночестве в «могилоподобных» или инфернальных помещениях – в темнице, сумасшедшем доме, под землей, под водой, в чреве чудовища и т. п.;
(6) блуждания по пустынным и диким местам;
(7) сбрасывание прежней одежды, нагота («костюм Адама»);
(8) перемена имени.
Эти моменты редко выступают в полном наборе; некоторые из них (например, (1), (2) и (3)) часто переплетаются в одном сюжетном событии (см.: Щеглов 1986).
Для первых снов, как и для последующих, типичны моменты раздвоения персонажа, когда он вдруг начинает видеть со стороны себя и собственные действия. Этот момент, связанный с рефлексией и самооценкой, можно в большом количестве наблюдать у Толстого, Достоевского и Чехова[19].
Начинается в первых снах и еще один процесс, затрагивающий личностную сторону героев, – постепенное переплетение, взаимопроникновение их персональных мотивов и стилей и (по крайней мере в проекции) отождествление каждого из героев со всеми другими. Таким образом, типичное для снов слияние нескольких лиц в одно используется писателем в тематических и сюжетных целях. Утопическим результатом этого в финале повести будет отказ героев от всего того, что первоначально определяло их и отграничивало друг от друга, нейтрализация в них всего разного (т. е. в конечном счете отказ от всего личностного, растворение в некой «мировой душе») и слияние в братском единстве вокруг символической бочкотары.