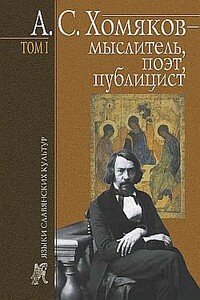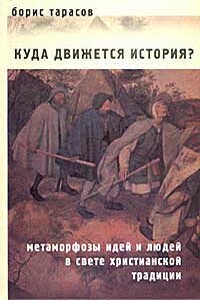Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец | страница 43
. Представление об этой медленной пытке, которая будет продолжаться непонятно сколько времени, глубоко возмущает нашего героя. Ведь он только что покончил с собой, желая уйти и от обычных человеческих страданий, и от бессмысленности человеческой жизни, в которой все равно! И зачем же, только затем, чтобы подвергнуться этой новой изощренной и бессмысленной пытке? Все это вызывает глубокое негодование в сердце героя, и он, почти поневоле, бросает вызов… кому? Герой сам не знает этого, но непроизвольный вызов его обращен тем не менее к некой личности. «И вдруг я воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною: “Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое – безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества!..” Я воззвал и смолк»[93]. Возглас этот, хочется даже сказать ультиматум, в высшей степени любопытен. Герой, по-видимому, не является верующим человеком. Однако он не исключает возможности того, что мир управляем неким личным существом, «властителем всего того, что с ним совершается». Чисто логически здесь предполагаются три типа мировоззренческих горизонтов, в которых звучит возглас героя. Первый: может быть, и нет никакого Абсолюта, никакого Властителя, например, есть только безличные законы материальной природы, управляющие всей вселенной, и тогда все человеческие страдания, ценности и упования, включая и страдания живого человека, лежащего в гробу, суть только лишь эпифеномены, и вопиющая бессмысленность их также только эпифеномен, ибо последний смысл всего заключен только в движении материальных частиц в пространстве и времени и… как говорится, обижаться не на кого. В этом мировоззренческом горизонте фактически нет никакого религиозного измерения. Второй горизонт: существует некое личное начало, стоящее над миром, и как-то ответственное за все, что в нем происходит. Это существо может быть разным, оно может быть и совершенно безучастным к судьбе человека, и бессильным перед лицом мирового зла, а то и само являться его причиной и т. д. Множество этих возможностей предоставляет нам картина мировых религий. Герой «Сна» обращается к этому гипотетическому существу с надеждой на сочувствие: если есть что-то разумнее этого унизительного и бессмысленного страдания, то пусть оно будет явлено, хотя бы даже и в качестве какого-то
Книги, похожие на Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец