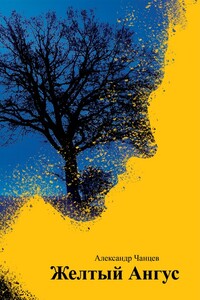Литература 2.0 | страница 11
Верлибр, впрочем, это совсем не то же самое, что любовный сонет. Так, несмотря на сугубую лиричность текста, присутствующую в ней из-за любовной интриги, речь отнюдь не идет о чем-то приторном, так как на саму любовную тему наложен своеобразный иронический фильтр. Эта авторедактура реализуется прежде всего в словесном обыгрывании самого слова «любовь» — «Вера, Надежда, Любой», «Песнь торжествующих любых» и «кавычки любовь».
«Любой» и «любых» здесь слегка заземляют лирический пафос, но служат, кажется, и еще одной задаче — показать не общность, универсальность чувства, но то, что в создании любовной интриги / content’a книги / ее текста (а для стилиста Лебедева интрига равна тексту, если не меньше его) может поучаствовать любой. Лебедев, как К. Бое в фильме «Реконструкция», в котором встреча любовников изображена через взгляды разных персонажей, производит настоящую вивисекцию любовной интриги, деконструируя ее. Точнее, даже не ее саму, а средства, которыми она создается, и — возвращаемся к теме оптики — формы, с помощью которых она может быть увидена.
Оптика в книге отнюдь не сингулярна, скорее это мозаичное, почти фасеточное зрение. Происходящее дано нам отнюдь не только с точки зрения героев, погруженных в не рефлексируемый ими как таковой текст. Нет, герои выведены за пределы текста и одновременно погружены в него, что дает им возможность наблюдать за текстом и самими собою. Поэтому мы можем воспринимать текст и с точки зрения автора («…я с ужасом побежал в направлении следующей главы»), героини, озабоченной движением сюжета («…что варежку раззявил? Ты план следующей части составил?»), «многонедоумевающего читателя», критиков… Мало того, «автор-герой» и «автор-автор» не только отделены друг от друга, но и само «я» автора распадается на две личности («…мне нетрудно придумать восемь моделей женских брючных костюмов? — спросил я самого себя»), а потом и на различные субъекты («…я читал свою жизнь по дереву. Ты читал свою жизнь по дереву. Он читал. Мы вернемся»).
Различные оптики, впрочем, не распадаются, не дают распасться этому по-виановски лиричному и сюрреалистичному тексту, представляющему собой едва ли не единый верлибр размером с повесть, — наоборот, имеют тенденцию объединить его за счет всего многообразия взглядов. Когда это произойдет, тогда, если использовать другую цитату из «U2», «all the colours will bleed into one» и станет видно делёзовское Единое.