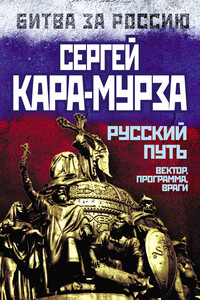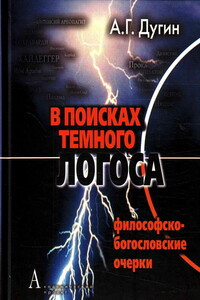Евразийский реванш России | страница 71
Все эти новые явления усложняют классическое видение геополитического дуализма, который в эпоху «холодной войны» воплощался наиболее отчетливо в идеологическом противостоянии цивилизации Моря (капиталистический лагерь) цивилизации Суши (социалистический лагерь) — с позиционной битвой за контроль над «береговой зоной», балансирующей между двумя полюсами. В новой картине мире атлантизм стал актуальностью, причем почти безальтернативной и планетарной, а евразийство — потенциальностью, альтернативным геополитическим сценарием. При этом оба полюса освободились от идеологической нагрузки: противостояние капитализма и социализма ушло в прошлое, геополитические конфликты и противоречия перешли в иную плоскость. Эти явления отныне было почти невозможно описать в терминах классовой борьбы, но легко — в терминах геополитики.
Радикальная трансформация геополитической функции Турции в 1990-е — 2000-е годы: кризис атлантизма
Беглый анализ новейших изменений в геополитической картине мира показывает контекст, в котором меняются геополитические функции всех основных игроков. В огромной степени это затрагивает и Турцию, ее геополитическую позицию в масштабе региональной политики.
Раз СССР и Россия перестали быть главным врагом атлантизма — по меньшей мере в открытой части внешней политики США, то антироссийская функция Турции на Кавказе, в Центральной Азии и на самой российской территории потеряла свою актуальность. Это легко проследить по быстрому падению интереса к пантуранистским проектам, как в самой Турции, так и на постсоветском пространстве. Одно дело — давить на тюркское население СССР в русле общей атлантистской стратегии для его антимосковской мобилизации с неопределенным исходом, другое дело — всерьез строить Пантуранское государство в условиях постбиполярного мира. На серьезную реализацию этого проекта не хватило бы ресурсов не только у одной Турции, но и у всего атлантистского сообщества, которое к тому же расколото на США и Европу и вообще теоретически никак не благоволит интеграционным процессам на расовой основе, особенно в Азии. Следовательно, пантуранская интеграция была оставлена Анкарой даже как чисто теоретическая модель, что сняло одно из существенных препятствий для позитивного развития российско-турецких отношений. Более того, являясь привлекательной альтернативой для тюрок и тюркских государств СНГ на первом этапе — в конце 80-х — начале 90-х, — Турция постепенно утратила значительную часть своей притягательности по мере того, как развивалась рыночная экономика в России, в самих этих странах, и прогрессировали прямые связи с Западом. Мощное национальное государство Турция с довольно жестким стилем дипломатии представляло собой слишком серьезный выбор для колеблющихся и неуверенных в себе постсоветских стран, особенно после того, как прошел первый шок независимости. Турция осталась значимым партнером для многих из них, но нигде она не стала играть роли реального центра притяжения. В этот же период активную поддержку турецких проектов на постсоветском пространстве отзывает и США, предпочитая действовать напрямую через сложившуюся сеть прямых агентов влияния.