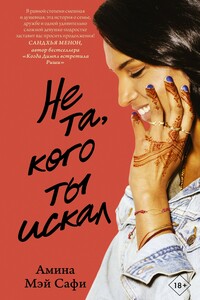Избранное | страница 24
Наряды для Аази были куплены моим отцом; они были очень разнообразны, и Аази каждый вечер искусно подбирала дикарские, но причудливо красивые сочетания самых кричащих расцветок. Свои длинные ресницы она, по обычаю, сурьмила, и от этого зрачки ее приобретали синеву ночного неба, а глаза как будто уходили вглубь. Две тонкие золотистые черточки над бровями, проведенные отваром из коры орешника, казались двумя крылышками. Той же корой она подкрашивала губы и десны; руки и ноги у нее были подцвечены американской хной — более яркой, чем местная хна, которой у нас пользовались еще недавно. От всего этого веяло странным ароматом, где чувствовался и гелиотроп, и гвоздика, и росный ладан. Этот запах Аази оставляла за собою всюду, где проходила, — в траве, по которой ступала, в ветвях, задетых по пути; мы ощущали его даже на каменных плитах у родника Аафира, где накануне утоляли жажду.
Аази похудела, но вся светилась счастьем; мне трудно это описать — быть может, потому, что счастье вообще не поддается описанию. Женщины, ходившие за водой, завидев нас, опускали голову, как и полагается при встрече с мужчиной, но я не раз замечал, обернувшись, что они с восторгом любуются Аази.
С моей женитьбой наш кружок окончательно распался. Настоящая любовь эгоистична; мы с Аази были настолько заняты сами собой, что забыли о друзьях и уже почти не вспоминали о своем намерении открыть Таазаст.
Менаш тоже отдалился от нас и жил другой жизнью. Теперь он каждый вечер присоединялся к ватаге Уали. Терзаясь одиночеством в том тупике, куда его загнала страсть, которая, по нашим обычаям, карается смертью, он пытался преодолеть эту страсть с помощью теории, в которую упорно старался уверовать.
— Только выродки, только хилые порождения усталой цивилизации сомневаются и страдают. Одно лишь действие истинно, ибо оно разрешает вопросы даже прежде, чем они возникнут. Делать что бы то ни было, когда бы то ни было — вот в чем секрет счастья.
Ради осуществления этой прекрасной теории, а на самом деле для того, чтобы одурманить себя и забыться, Менаш стал постоянным участником сехджи.
В угоду вкусам кружка Уали Менаш, еще недавно такой нарядный, стал носить грязный бурнус, отпустил длинную бороду. Тонкую ивовую трость он сменил на ясеневую дубинку. Ввести его в кружок взялся наш пастух Мух. И он выполнил свое обещание очень ловко. В первую же ночь, когда Менаш присоединился к юношам, Мух превзошел самого себя. Он творил чудеса. Сначала он схватил тамбурин, и Менаш невольно залюбовался движениями его рук, такими быстрыми, что едва можно было различить пальцы; дробь Мух выбивал еле заметным движением большого пальца; затем он взялся за мандолину, но вскоре отбросил ее, так как оборвал струну. Сехджа оглашала все вокруг адским и все же размеренным грохотом. На рассвете Мух исполнил женские пляски. Для этого он переоделся женщиной. Приготовления были долгие: танец Муха напоминал вступление в бой старой гвардии. Он начал с медленного ритма, как бы приберегая силы. Вдруг Равех прервал сехджу и запел на новый мотив песенку «Мой базилик»: