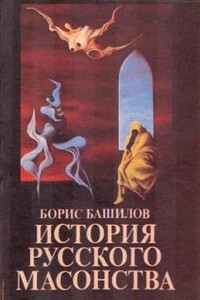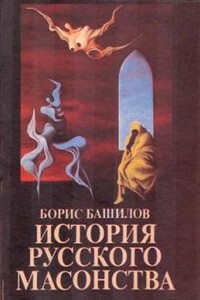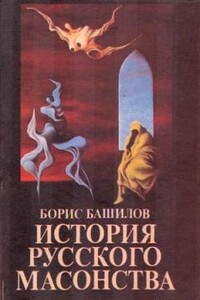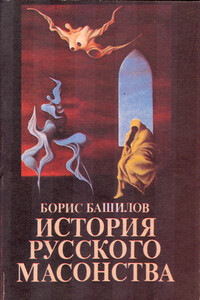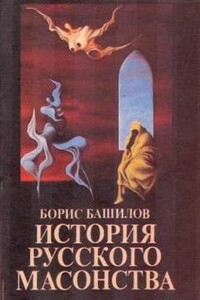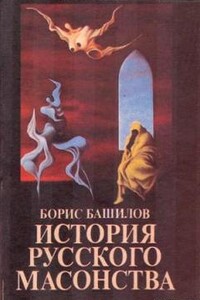Масонство и русская интеллигенция | страница 8
VIII
"Если до царствования Николая I Церковь была объектом гонений со стороны государства, то в царствования его преследования Церкви прекращаются, но она по-прежнему находится в пленении у светской власти: перестает быть гонимой, но не становится духовно независимой. Количество церквей и монастырей увеличивается, проявляется большая забота по отношению к духовенству и его нуждам, но, основного, что только могло бы вывести Церковь из того глубокого кризиса в котором она находилась сделано не было. Патриаршество не было восстановлено. В церковно-общественной жизни Филаретовской эпохи по определению митр. Антония "продолжалось протестантское влияние, внесенное в русскую церковную жизнь, церковной реформой Петра I, соединенное при этом с духом формализма. В богословско-научной и учебной области было непререкаемым авторитетом "Исповедание Петра Могилы", находившееся под влиянием католических идей. Такое сочетание протестантских, католических и православных идей и создало тип Московского иерарха сановника (Митр. Филарета. - Б. Б.), надолго подчинившего своему влиянию церковную жизнь не только Москвы, но и всей России. Благодаря такому направлению в деятельности высшей иерархии в России закреплялось то положение, при котором духовенство было одним из сословий, а Церковь одним из ведомств в государстве и притом ВЕДОМСТВОМ ВТОРОСТЕПЕННЫМ, ПОЧТИ НЕ ИМЕВШИМ ВЛИЯНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, а священники становились ВТОРОСТЕПЕННЫМИ ЧИНОВНИКАМИ В ГОСУДАРСТВЕ. Конечно, громадное большинство российских епископов были людьми безупречной жизни и высокого личного религиозного духа, но общая тенденция этой эпохи заключалась в проникновении их казенно-формальным духом. Среди низшего духовенства было большое число самоотверженных пастырей, но в своей духовной жизни они питались не столько влиянием своих архипастырей, сколько неисчерпаемым запасом церковно-народного духа" (Еп. Никон. Жизнеоп. Блаж. Антония., I, стр. 115). После запрещения масонства Николаем I, во главе Синода не смогли быть уже более масоны и атеисты, как это было ранее, но поскольку Церковь по-прежнему управлялась назначенными царем чиновниками, она попрежнему не обладала необходимой ей духовной свободой действий в религиозной сфере. Преследования кончаются, но духовное порабощение остается. Процесс управления Православной Церковью с помощью чиновников, выбиравших членами Синода наиболее покладистых князей церкви, развивался в николаевскую эпоху все дальше, по линии дальнейшего попирания остатков духовной независимости Церкви. До 1833 года, обер-прокурором был кн. П. С. Мещерский, занимавший эту должность с 1817 года и бывший в эпоху активного наступления русского и мирового масонства на Православие правой рукой министра Духовных дел и Народного Просвещения кн. А. Н. Голицына, которому он, как оберпрокурор подчинялся. После кн. Мещерского обер-прокурором стал: С. Д. Нечаев. Автор книги "Император Николай I - Православный Царь". Н. Тальберг пишет: "При нем усилилось значение занимавшейся им должности". После Нечаева обер-прокурором был назначен воспитанник иезуитов... гусарский полковник Протасов. Протасов стал командовать Церковью, как подчиненной ему воинской частью". "Сказалась и прежняя его служба, - отмечает Тальберг. - ...Им еще более усилено было значение обер-прокурора и налажен административный аппарат Синода". Протасов был рационалист, поклонник Запада. За туманными намеками Тальберга скрывается трагедия усиливающегося административного нажима на Православную Церковь в эпоху КОГДА ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШАЛАСЬ СУДЬБА ПРАВОСЛАВИЯ И ПЛЕНИВШЕЙ ЕГО СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. Ведь годы царствования Николая I, когда еще не окреп духовный отпрыск запрещенного масонства, только что возникший Орден Р. И. - были последними годами, когда Православная Церковь в случае восстановления патриаршества, может быть, смогла бы еще вернуть свою былую духовную силу и свое влияние на народ.