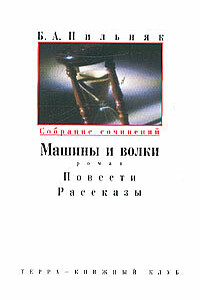Том 5. О'кэй. Камни и корни. Рассказы | страница 41
«Да, да. Все это так. Все это умерло!..»
«Моя жизнь прошла так, что, может быть, сейчас впервые я думаю, – как сказать? – о человеческих инстинктах и о моих собственных. Мне некогда было о них думать. И это уже на самом деле, что только сейчас я поистине свободна, потому что на самом деле мне было некогда все время. Как ни стыдно признаться, но и ребенок, для которого я пишу сейчас, у меня будет потому, что мне было некогда. Серьезно я задумалась о ребенке только тогда, когда он начал двигаться!., и это заставило меня думать именно об инстинктах, и эти мысли привели меня к воспоминаниям детства. Мне было десять лет, когда началась революция и отец с двумя наганами ушел обстреливать Кремль. Наш дом на Пресне превратился в районный штаб, где говорилось и делалось только для революции и где мы все голодали. В двенадцать лет я была комсомолкой и на общественной работе, я училась в семилетке, мои мысли были заняты учебой, очередными уроками и комсомольской работой, читать я не успевала ничего, кроме «Комсомолки», и то урывками, мне все время хотелось отоспаться. В двадцатом году под Перекопом был убит отец, я пошла на работу, очень глупо, к соседям в няньки, пока меня не приняли на Трехгорку. Там я училась в фабза-вуче. И опять у меня не было ни одной лишней минуты. Комсомол снял меня от станка. Бюро райкома превратилось в мою квартиру, «Комсомолка» вычитывалась от корки до корки, потому что то, что писалось в «Комсомолке», я должна была проводить в жизнь. «Комсомолка» была справочником всего, что касалось моей жизни и моих дел. И опять у меня не было ни одной свободной минуты. Можно не писать дальше, – так было всю жизнь. Я всегда уходила с головою в мои дела, – будь ли это ударная неделя по мобилизации в деревню, будь ли это расследование о комсомольской пьянке, будь ли это – теперь – ревизия в Константинополе.
«Я не случайно написала вчера о барыне с богом, с чертом и с масонами. Мне неловко перед моим будущим ребенком, но я должна написать сейчас, – ну да о собаке товарища Б. Ребенок зашевелился во мне ночью, я проснулась. Это нельзя передать словами – это восхищение, доходящее до ужаса, это ощущение жизни и смерти одновременно, эту радость, доходящую до физического ощущения, – этот стыд, доводящий до слез и одновременно такой, что мне хотелось вскочить с постели и позвонить по любому телефону, чтобы любому человеку рассказать – о том, что сейчас, пять минут тому назад, во мне задвигалось новое человеческое существо, никогда не бывшее, неповторимое, единственное, которое будет жить в новую эпоху, в бесклассовом обществе, без классовых противоречий, борьбе с которыми я в частности отдавала свою жизнь. Это было под выходной день, мне позвонили, что я должна ехать по срочному делу с докладом на дачу к товарищу Б., за сорок километров, за мной прислали автомобиль. Я приехала с утра и пробыла до обеда, товарищ Б. просматривал дело, а кроме этого, сердился вместе с домочадцами. Их собака должна была родить через несколько дней, и она мучила хозяев. Они только что устроились на даче, построили сарай и погреб, забор, рассадили цветы и деревья, – и собака подрывалась под дом, под погреб, под забор, под сарай, под клумбы, каждый раз в новом месте, готовя себе берлогу для родов. Собаку все время гоняли с места на место и закапывали ее ямы, собака смотрела на людей прибитыми глазами и вновь начинала рыться. На собаку кричали. И вдруг я вознегодовала на человеческую бесчеловечность, вознегодовала самым серьезным образом, не понимала, откуда у меня такая самая настоящая злоба, – и вот не забываю этой собаки до сих пор, до сих пор я помню ее глаза, и во мне поднимается злоба, когда я думаю об этих зарытых ямках.