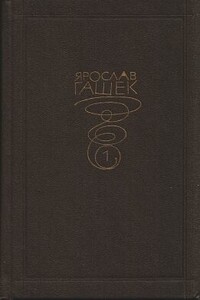Литературная Газета, 6494 (№ 03-04/2015) | страница 63
Разыгрываются трагедии, рушатся семьи и дружбы. В последней серии действуют только немцы, вернее те, в кого они превратились, индуцированные жестокостью русских. Правда, время от времени забегает тот безжалостный русский офицер, он старается взбодрить немцев: «Вы должны всё делать для того, чтобы прославлять СССР». Муж Анны, простой парень, в отчаянии. Его идеалы рушатся. Молодой еврей, который всю войну провёл в подполье, радуется, что теперь не надо прятаться. Но ему суждено погибнуть, естественно, от рук испорченных русскими немецких пограничников. Сами сюжетные линии в этом фильме ничем не отличаются от показанных в других сагах подобного типа. На них даже не стоит останавливаться. Главное здесь – мощный идеологический концепт, ради которого и было всё затеяно. В течение всех фильмов трилогии зрители наблюдают дихотомию в различных сферах – свобода и равенство, любовь и лояльность, традиция и будущее без традиций. Вложены огромные деньги для того, чтобы построить матрицу текущего момента, в которой обозначены приоритеты демократического западного общества, которые должны перевесить силы зла, сосредоточенные в Советском Союзе и теперь, в его наследнице – России.
Ревизия истории происходит под трансатлантическим патронатом. Это не просто бросается в глаза, это кричит. Исполнители заказа канала ZDF, условно дети и внуки нацистов того времени, предстают в более человеческом виде, чем их предки, что понятно – времена уже не те. Они провозглашают несколько изменённые задачи, которые стояли перед их дедами. Теперь в духе времени: «Евреи – классные. Но коммунисты и русские – по-прежнему очень злые».
Теги: телевидение
Лев: история в картинках
Цикл Льва Аннинского "Охота на Льва", повествующий о взаимоотношениях Льва Толстого с кинематографом, повторно показанный по каналу «Культура», вызывает вопросы с самого начала. Толстой - велик, с этим не поспоришь. Но говорить о Толстом и кино как о двух равновеликих явлениях – это преувеличение. Всё-таки отождествлять Толстого и совесть, Толстого и жизнь, Толстого и литературу – довольно большая натяжка. Думается, что и сам Лев Николаевич этому бы воспротивился. Толстой – не Бог литературы и не хозяин её, а великий мастеровой, работник. Поэтому бесконечное повторение «великий старец, великий старец» коробит и раздражает. Старчество – это не из области литературы, это религиозная традиция, отношение к которой Толстого также известно. Попытка превратить его в мерку для всякого эстетического явления, в нечто недосягаемое и богоподобное уже с самого начала задаёт неверный тон всему циклу. Вместо размышлений о взаимоотношениях художественного образа и визуального ряда – шкалирование: кто выразил Толстого более? Вместо разговора о диалоге литературы и кино поиски диалога с Толстым. Вместо последовательного доказательства с самого начала – предвосхищение итогового вывода: «Сравняться с Толстым и исчерпать его глубину кино не сумело». В итоге, просмотрев весь четырёхчастный цикл, чувствуешь в какой-то степени разочарование. Цикл сводится, в сущности, к истории экранизаций, к простой оценке их качества, их аутентичности. Аутентичности кому, чему? Аннинский говорит, что Толстому, а надо бы художественному слову. Ведь определённые фрагментарность и узость экранизаций А. Зархи, М. Швейцера и С. Бондарчука не от того, что они не столь богоподобны, как Толстой, но от того, что искусство слова само по себе могущественнее искусства движущихся картинок.