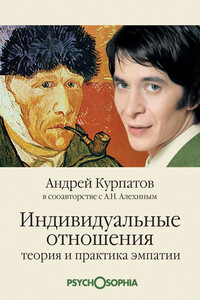Развитие личности. Психология и психотерапия | страница 87
Что имеется в виду? Когда человек играет я-отождествленную роль, он вынуждает другого (своего напарника) играть соответствующую роль (или делает его играющим такую роль), иными словами, лишает его (этого другого) возможности быть собственно собой, как бы вычленяет из его целокупности только ту его «часть», то его Я (я-отождествленную роль), которое соответствует его (рассматриваемого нами субъекта) ожиданию.
Когда Ж. Лакан говорит, что «эта форма другого находится с его Я в самой тесной связи», как бы «накладывается на него», речь идет именно о я-отождествленном отношении, в котором каждый играет я-отождествленную роль, обусловливая игру друг друга. Если мы представим себе аналогию с театральным действием, то в самом общем приближении можно сказать, что, играя Гамлета, актер фактически делает свою партнершу Офелией, играя же Отелло – Дездемоной, в противном случае пьеса не удастся.
Далее Ж. Лакан конкретизирует эту мысль: «Имеется, таким образом, плоскость зеркала, симметричный мир эго и однородных других».[120] Чем подтверждает наше предположение, поскольку когда он говорит о «мире эго» (читай – «мирах») и «однородных других», указывая на их симметричность, понятно, что речь идет о я-отождествленных отношениях.
Теперь Ж. Лакан идет дальше: «Именно в порядке, установленном стеной языка, и черпает воображаемое свою ложную реальность (воображаемое черпает себя в Символическом. – А.К., А.А.), которая остается тем не менее реальностью засвидетельствованной. Собственное Я (в нашем его понимании), другой, подобный – все эти воображаемые сущности являются объектами. […] Объектами они, безусловно, являются, будучи как таковые поименованы внутри однородно организованной системы – стены языка».[121]
В этой цитате важно каждое слово. Во-первых, высказывание «засвидетельствованная реальность» означает, что отношения эти действительны, но при этом уточнение «именно в порядке, установленном стеной языка» говорит нам, что эта реальность обеспечивается взаимной согласованностью игры, обеспеченной «поименованностью» ролей («сын – мать», «учитель – ученик», «покупатель – продавец», «аналитик – анализант» и т. п.) и их соответствием «внутри однородно организованной системы» (не «сын – продавец», не «ученик – мать» и т. п.). И наконец, может быть, самое важное: «эти воображаемые сущности являются объектами», то есть субъекты выступают здесь даже не в роли субъектов, а как предметы, поскольку они, будучи в я-отождествленных отношениях, только марионетки игры, правила которой предусмотрены уже самой игрой, названием пьесы: «Гамлет», «Отелло». Можно, опять же с сильным приближением, сказать, что здесь срабатывает «субъективация» (М. Фуко), но не «субъективность» как таковая.