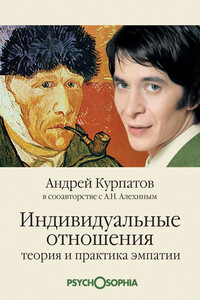Развитие личности. Психология и психотерапия | страница 84
Для демонстрации этой сложности Ж. Лакан использует два примера. Первый приведен в работе «Логическое время» и касается трех заключенных тюрьмы, одному из которых обещано освобождение, если он первым правильно угадает, какой по цвету кружок (из трех белых и двух черных) закреплен у него на спине. Второй пример описан в уже цитированном нами втором томе «Семинаров» Ж. Лакана, где для анализа используется один из рассказов Эдгара По («Украденное письмо»), а именно та его часть, где мальчик рассказывает главному герою рассказа (Дюпену), как ему удается постоянно выигрывать в «чет или нечет?» Мы не будем повторять ход размышлений Ж. Лакана, отметим лишь, что данные примеры служат ему для выявления феномена «интерсубъективности».
Возвращаясь к определенным нами уровням социализации, на этапе «социального одиночества» и в большей степени на этапе «социальной растворенности» ребенок не воспринимает других людей как людей. На первом уровне своей социализации он вовсе не выделяет людей из мира вещей, поскольку не ощущает своей собственной субъективности. На втором уровне, схватывая уже ощущение собственной субъективности, он еще не способен в полной мере осознать, что другие люди также обладают такой субъективностью, он не готов отказаться еще от иллюзии своего полного господства над миром, допустить, что другие столь же самостоятельны, сколь и он сам. На третьем уровне («социальной развертки») ребенок склонен приписывать другим людям даже несколько превосходящую его собственную степень субъективности, хотя и не осознает этого.
К четвертому этапу («деятельностной социализации») степень субъективности себя и другого достигает в сознании ребенка своего паритета, хотя теперь она столь формализована, что взрослеющий ребенок считает себя способным предугадывать мысли и чувства другого человека, «знать» все «должен» и «может», полагает себя «мерой людей», что, разумеется, также является существенным заблуждением. С этой иллюзией он и проследует дальше, если не вступит окончательно и бесповоротно на столбовую дорогу развития личности, где ему предстоит открыть сущностную инаковость другого человека и отсутствие «общих правил».
Теперь мы можем определить «интерсубъективность», свойственную формирующейся (сформировавшейся) личности, и «интерсубъективность», свойственную развивающейся (развившейся) личности. В первом случае эта интерсубъективность не предполагает наличие инакового другого, создает иллюзию понятности и предсказуемости другого человека (назовем ее «первичной интерсубъективностью»). Во втором же случае интерсубъективность оказывается по-настоящему действительной, поскольку для личности, достигшей третьего уровня развития личности, другой человек предстает инаковым, сущностно отличным, индивидуальностью, ощущаемой как уникальность, а потому действительной лишь в осознании всей ее непредсказуемости и имманентной специфичности (назовем эту интерсубъективность «вторичной»).