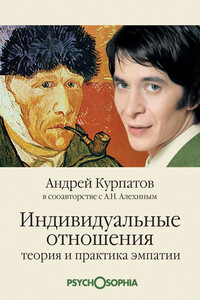Развитие личности. Психология и психотерапия | страница 73
На этапе «социальной развертки» ребенок на собственном опыте убеждается, что мама – это мама, учитель – это учитель, кондуктор – это кондуктор, продавец – это продавец. Иными словами, люди перестают существовать для него как некие данности во всей их целокупности (никогда, впрочем, им не изведанной, но и не отрицаемой прежде), но оказываются теми людьми, от которых понятно что и когда нужно ожидать. Они оказываются персонажами, выполняющими определенные функции, они воспринимаются как актеры, которые не могут не играть той роли, которую они играют. Если ребенку девяти лет предложить игру, где все привычные для него ролевые функции будут перепутаны, он или испугается, или станет смеяться (классическая защитная реакция). Для него немыслимо, чтобы его учитель попросил его предъявить «ученическую карточку» на общественный транспорт при входе в класс, а продавец из соседнего универсама пришел бы к нему домой и стал бы проверять правильность сделанных уроков. Это бы удивило и взрослого, но тот бы быстро подыскал в своей Индивидуальной Реальности какое-нибудь «логичное» объяснение этому странному поведению указанных персонажей. Например, он бы решил, что учитель сошел с ума, а продавец участвует в спектакле «театра абсурда», в художественной самодеятельности…
Однако ребенок девяти лет, не столь поднаторевший в подобного рода объяснениях, будет смеяться, утверждая, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Сейчас мир для него скроен из я-отождествленных отношений, а сам он обретает собственную «идентичность», определяя свое фактическое положение в социальной структуре.
Альберт Бандура предлагает такую («внешнюю») версию описанных процессов: «Все дети являются субъектами процесса социализации, суть которого состоит в подчинении влечений требованиям общества. В первое время внешний контроль необходим; младенец или совсем маленький ребенок подчиняется только прямому родительскому вмешательству. Но довольно быстро ребенок учится различать, какие действия одобряются, а какие нет, за какое поведение следует вознаграждение, а за какое – наказание. Хотя теперь ребенок может стараться подчиняться родительским требованиям и запретам, осуществляемый ими контроль остается, по большей части, внешним. Ребенок на этой стадии развития в основном контролируется страхом. Поскольку самоконтроль ребенка зависит от умения предсказать внешнее наказание, постоянное присутствие наблюдающего взрослого все еще необходимо, чтобы обеспечить его пребывание в границах дозволенного. По этой причине только страх наказания не может служить эффективным средством предупреждения антиобщественного поведения. Если ребенок чувствует, что риск быть пойманным или наказанным невелик, он может легко нарушить установленные границы. Только если родительские нормы поведения будут восприниматься им как свои собственные, ребенок станет следовать запретам даже тогда, когда его вряд ли схватят за руку. Такая интериоризация системы запретов – процесс постепенный и для большинства, по-видимому, не бывает окончательным».