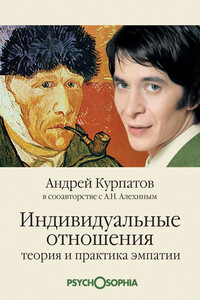Развитие личности. Психология и психотерапия | страница 64
Впрочем, тут возникает определенная концептуальная трудность. Ведь нет полной ясности в том, какую функцию выполняет собственно сам ребенок в процессе своей социализации. Теория научения, кажется, вполне отвечает на поставленный вопрос: ребенок, по ее мнению, выполняет пассивную функцию, он подобен глине, из которой социуму предстоит изваять нечто, что бы отвечало его, социума, ожиданиям. Альберт Бандура исчерпывающе формулирует эту стратегию: «В настоящее время не вызывает сомнений, что родительские требования и дисциплинарное воздействие сильно сказываются на социализации ребенка. Родители, однако, не могут постоянно быть рядом, чтобы руководить и управлять детским поведением. Поэтому для успешной социализации необходимо постепенное замещение внешних санкций и требований внутренним контролем и управлением. Когда такое самоуправление достигнуто, санкции и внешняя власть, по большей части, уже не требуются, чтобы удерживать человека от антиобщественного поведения. Направляющую и сдерживающую функцию берут на себя самоконтроль и самоуважение».[71] С подобной трактовкой трудно не согласиться, но, с другой стороны, очевидно, что данная теория не позволяет понять многие известные науке феномены, например «кризис трех лет», описанный Л.С. Выготским.
По всей видимости, было бы более правильно рассматривать процесс социализации ребенка не как процесс научения его чему-то (языку, социальному поведению, нравственным ценностям и т. п.), а скорее как процесс адаптации ребенка к социальной среде. Если, изучая процесс формирования личности, поместить точку обзора в «воспитателя», то мы увидим лишь процесс научения ребенка определенным навыкам социального общежития; если же мы попытаемся посмотреть на процесс формирования личности не «снаружи», а «изнутри» его самого, то мы увидим сложнейший и многотрудный процесс адаптации ребенка к реалиям социального существования.
Такая гносеологическая позиция позволяет нам понять, что именно вынуждает ребенка поступать так или иначе, осознавать его сопротивления как свидетельство трудностей, с которыми он сталкивается, а не как проявление его «дурной природы». Такой подход позволяет нам выступать в качестве союзников, а не вероломных агрессоров, он наделяет нас статусом скорее «врача», нежели «тюремщика». Это позволяет нам корректировать воспитательную функцию соответственно внутренним императивам ребенка, с которыми он и сам борется, от которых он и сам страдает не меньше нашего, тогда как первый порыв (и теория социального научения его не чуждается) состоит в том, чтобы призвать ребенка «к порядку». Точка обзора, установленная не «снаружи», а «внутри» процесса формирования личности, позволяет нам рассматривать ребенка как человека, который нуждается в руководстве, а не в понукании, надзоре и наказании.