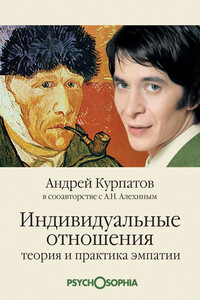Развитие личности. Психология и психотерапия | страница 31
Ситуация складывалась следующим образом. Очевидно, что всякая наука имеет прикладные задачи, а наиболее успешной оказывается та, которая создает или обеспечивает создание технологий. Нельзя не считаться с реалиями: бурного развития науки, которая не дает ощутимой отдачи, ожидать не приходится. Не будет ни финансовых вливаний, ни популяризации, необходимых для ее роста. Не будет в конечном итоге и самой науки.
Но каковы прикладные задачи психологии? По всей видимости, их две, из которых одна действительно состоялась, а вторая оказалась в крайне затруднительном положении. Первая – это самые разнообразные технологии воздействия на человека. По сути это технологии манипуляции человеком или группами людей; цели, впрочем, здесь могут быть и весьма благопристойными. А вторая прикладная задача психологии – это повышение субъективного качества жизни человека. И эта последняя быстро выкристаллизовалась в совершенно отдельную отрасль, нареченную весьма высокопарно: психотерапией.
Приходится признать, поскольку вопрос терапевтической эффективности психологических воздействий до сих пор дискутируется, назваться терапией психотерапия явно поспешила. Но если уж означил себя груздем, то полезай в кузов, а потому психотерапии, можно сказать, на колесах пришлось формировать то, что в кавычках можно было бы назвать «психотерапевтической психологией». Кавычки эти обусловлены фиктивностью ситуации, потому что пока в этой ситуации надо выбирать – или курица, или яйцо, представить себе их гибрид достаточно сложно.
«Психология», опять же в кавычках, выросшая на ниве психотерапии, конечно, паранаучна. Коротко остановимся на этих экспериментах: психоаналитическом (психодинамическом), когнитивно-поведенческом и гуманистическом.
Психоанализ, возникший, по сути дела, лишь как исследовательская техника, был вынужден сразу приняться за «толкование» (интерпретацию) найденного материала. Чуть более десятка случаев легли в основу сбитой теории, объясняющей все и вся человеческое. Кроме того, подход был тенденциозным, вызывал на свет дискурсивность сексуального, чем, собственно, и сделал себе имя, а после этого стал отчаянно защищаться от каких бы то ни было нападок. А нападки посыпались одна за другой.
Альфред Адлер столкнулся с тем, что личность – это образование социальное, а не сексуальное; у Карла Юнга человек преобразился в культуральное явление; Вильгельм Райх нашел феномен «хронического мышечного напряжения», а потом и вовсе ушел в физиологию оргазма с последующей его мистификацией; Жак Лакан понял человека как единство познающего и обозначающего. Короче говоря, каждый новый, точнее, прежде незамеченный психический феномен становился оплотом новой теории, обещавшей прояснение всех вопросов. Таким образом, несмотря на очевидное увеличение объема знаний, представление о человеке как о предмете исследования еще более замутнялось.