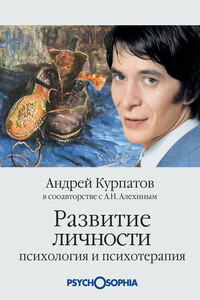Индивидуальные отношения. Теория и практика эмпатии | страница 99
Эти внутренние изменения приносят в жизнь человека совершенно новое, в каком-то смысле «незамутненное» видение. И именно это характеризует вхождение человека в реальность неполных индивидуальных отношений – изменяется его мировоззрение: реальность жизни получает в нем «контрольный пакет акций», в сравнении с прежде господствовавшим там идеализмом. Теперь и реструктурированная система личности, и обновленное мировоззрение такого человека позволяет ему достаточно быстро и полно входить в индивидуальные отношения в том случае, если, конечно, к тому готова и вторая сторона.
Остановимся на нескольких особенностях, специфичных для мировоззрения личности, вступившей в реальность неполных индивидуальных отношений.
Первый вопрос – вопрос о ценностях. Мы организуем свое поведение, ориентируясь на те или иные приоритеты, если человек ценит некие типичные блага: социальное положение, материальное благополучие, «крепкую семью» и т. п., – это один род поведения и деятельности. Если благом и ценностью являются для него искусство, творчество, «светлые чувства» – то это уже несколько иной способ организации своей жизни, но, по сути, тот же самый, ведь все эти ценности содержательны. Человек, познавший реальность индивидуальных отношений, осознает различие между сутью, с одной стороны, и содержания, формы – с другой. Ценности такого человека – сущности сами по себе, для него имеет истинную значимость непреходящая ценность индивидуальности любой «вещи». Интересно для него не само переживание – страдание или наслаждение, а переживающая – страдающая или, напротив, наслаждающаяся – сущность человека, тот, кому принадлежит это переживание, самому же переживанию он не отводит главенствующей роли. Не случайно Ф. Пёрлз в своей книге «Гештальт-подход» настаивает на необходимости понимания теории гештальта, а не симптомов психологических недугов и способов борьбы с ними. На первый и поверхностный взгляд эта работа может показаться грубой, лишенной сострадания к человеку и даже антигуманной, но взгляд Ф. Пёрлза устремлен глубже – он не переоценивает значимость симптома, в каком-то смысле даже игнорирует его, но с тем, чтобы восстановить адекватное функционирование системы «фигура-фон». Если этот результат будет достигнут, уйдет и симптом, а до тех пор всякое психологическое пособие, сколь бы сострадательным оно ни было, окажется малоэффективным.
Всякое переживание – это, своего рода, симптом, проявление, не более того. Но врач, если есть такая возможность, лечит не симптом, он определяет патогенетические механизмы, пытаясь воздействовать не на проявление, а на существо болезни. Если у пожилого мужчины проблемы с мочеиспусканием, жестоко заниматься постоянным катетеризированием мочевого пузыря, необходимо оперировать аденоматозно измененную простату. Точно так же и здесь: ценным признаётся сама сущность, но не ее проявления. Этих сущностей, на самом деле, не так и много – это сущность другого человека, сущность отношений двух людей, сущность мира, нас окружающего, сущность жизни как таковой. Гений, это одаренное от природы человеческое существо, намного ценнее его гениального творения. В отношении с другим человек, вступивший в реальность индивидуальных отношений, ценит не то, что он сказал, сделал или имел в виду, а то, что он хотел сказать, сделать или даже просто иметь в виду. Суть всегда правдивее, честнее и объемнее, нежели любое ее проявление. Поэтому жизнь такого человека наполняется смыслом, ведь ценить то, что имеет суть, значит быть ближе всего к реальности, к эйдесичности вещей.